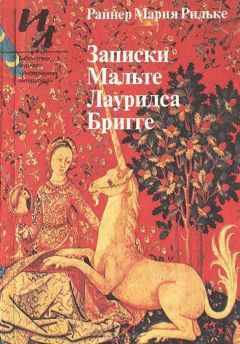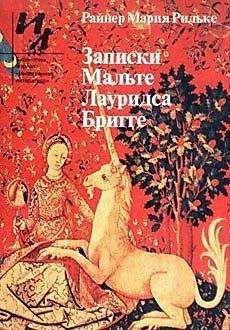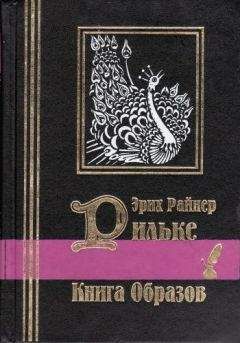Стефан Хвин - Ханеман
Не встречался он больше и с госпожой Штайн у кирпичной стены крытого рынка возле ящиков с толченым льдом, в которых рыбаки из Елитково и Бжезно выставляли на продажу свежую треску, однако несколько раз навестил ее на Ахорнвег, которая теперь называлась Кленовой. Визиты эти не всегда бывали приятными. Госпожу Штайн раздражал шум, доносящийся со двора, крики, перебранки. И уж совсем невыносимыми были запахи в парадном. На стенах возле лестницы регулярно расцветали желтые пятна, количество которых увеличивалось в субботние вечера. В прежние времена, когда по Мирхауэрвег прохаживался постовой Густав Йоппе, сын владельца столярной мастерской на Иоганнисталь, ни о чем подобном не могло быть и речи. На Штеффенсвег она видела, как двое рабочих прибивали к стене дома Горовицев эмалированную табличку с надписью "ул. Стефана Батория". Мирхауэрвег теперь называлась Партизанской, а Хохштрис - улицей Словацкого. Вместо Лангфур говорили "Вжещ", вместо Нойфарвассер Новый порт, а вместо Брёзен - Бжезно. Названия эти трудно было не только запомнить, но и выговорить. "Когда вы уезжаете?" - спрашивал Ханеман, чтобы прервать поток этих совершенно бессмысленных жалоб. Но госпожа Штайн давала уклончивые ответы. Столько всяких сложностей. Надо дождаться весточки от дочерей, которые поселились в Дюссельдорфе, но дела у них не блестящие. Ей не хочется быть обузой. Вопреки прежней привязанности к светлым пальто и накидкам, она теперь одевалась во все темное, пальто носила коричневые или черные, потрепанные, припорошенные нафталином.
Тем не менее Ханеман однажды встретил ее на Мирхауэрвег в обществе седоватого господина с тросточкой; на поклон она ответила улыбкой. На голове у нее была новая черная шляпа с серебряной брошью. Ханеман с минуту смотрел им вслед. Мужчина, с которым госпожа Штайн шла к трамвайной остановке на бывшей Адольф Гитлерштрассе, как и она, говорил по-немецки, но с явным польским акцентом.
Черные ели
По вечерам Ханеман иногда разбирал бумаги и переставлял книги на полках, но это занятие ему быстро надоедало. Тогда он садился в кресло у окна, открывал первую попавшуюся книжку и пытался читать. Однако это не всегда удавалось. Возможно, его отвлекали доносящиеся из сада голоса, а может быть, шум ветра или поскрипывание жестяного петушка, вращающегося на башенке дома Биренштайнов; так или иначе, блуждающие по страницам мысли разбегались куда хотели.
Нет-нет, это не было сентиментальным возвращением к людям и местам, к которым он прежде был привязан или даже любил. Когда-то, много лет назад, раздраженная чем-то мать сказала: "Похоже, у тебя нет сердца"; его это тогда сильно задело: слова матери, возможно вовсе не желавшей причинить ему боль, затронули в его душе нечто такое, что он от себя отталкивал, но что тем не менее украшало жизнь. Теперь же, когда он сидел вот так у окна, а солнце уже опускалось на верхушки сосен и черных елей, в груди у него, казалось, разливается холодная пустота; в этом ощущении, которое вызывало в памяти смутный образ матери, обвиняющей его в бесчувственности, было что-то приятное, приносящее облегчение, чему он поддавался охотно, с удивительным для него самого безразличием. Будто ему снился сон, хотя глаза были открыты. Отсутствие людей, тишина, угасание дня - в стынущем вечернем свете он отчетливо чувствовал свою принадлежность к этому миру, и даже мягкие волны воздуха, плывущие из сада, казались осязаемыми; кожа, хотя он понимал, что это невозможно, ощущала не только прохладные касания ветерка, но и само движение прозрачной ясности, в которой кружились сверкающие пылинки.
Отсутствие людей? Напротив, их отдаленное неназойливое присутствие прилетающие из-за окна вперемешку с просеянным листвой березы светом голоса придавало одиночеству приятную окраску. И звукам за окном вовсе не требовалось быть радостными. Нет, лучше, если они не сливались в полуденный шум города, а догорали в розовеющих лучах солнца и в шелест деревьев и постукивание чьих-то шагов по плитам тротуара врывался женский голос - мудрый женский голос (и дело было не в необычности слов, слова, как правило, бывали самые заурядные), звучный голос, которому из сада отвечал голос мальчика, кричащего, что ему еще не пора домой, или притворно хнычущей девочки: ведь еще рано и солнце, хотя уже и коснулось лесных крон, по-прежнему светит над Собором.
Тени за окном густели, движение в садах по обеим сторонам улицы Гротгера замирало. Пан Вежболовский закрывал за собой калитку, железо стукалось о столбик, сетка ограды тихонечко дребезжала; потом, когда он поднимался по бетонным ступенькам к дому Биренштайнов, его тень скользила по белой занавеске в окне веранды, потому что пани Янина, дожидаясь возвращения мужа с шоколадной фабрики "Англяс", уже зажгла лампу, хотя облака потемнели еще только над Вжещем, а небо над парком было подсвечено солнцем. Из окна на втором этаже пани В., упершись локтями в вышитую подушечку, смотрела на детей, которые возвращались с луга около костела цистерцианцев, неся воздушного змея из серой бумаги на перекрещивающихся рейках каркаса: длинный веревочный хвост, украшенный бумажными бантиками, с шуршаньем волочился по земле. В конце улицы под липами сыновья пани С. колотили железным прутом по мостовой, высекая голубоватые искры, но звон железа, ударяющего по гранитным и кремневым булыжникам, теперь никого не раздражал (в полдень было бы иначе), ведь даже пан Длушневский, поливавший левкои и георгины из большой жестяной лейки, если и восклицал время от времени: "Дали бы наконец покой!", возмущался не слишком громко, больше для порядка, нежели из желания прервать игру, которая - в чем можно было не сомневаться - в детстве и ему доставляла немалую радость.
Иногда, впрочем, прошлое возвращалось, и на месте пана Длушневского, поливающего цветы из большой жестяной лейки, Ханеман видел Эмму Биренштайн в длинном присборенном платье, причесанную как Рут Вайер в "Тайниках души" Пабста, срезающую тонким серебряным ножиком светлые гладиолусы, а в окне, из которого теперь выглядывала пани В., - Розу Шульц в бежевой чалме, в шелковой светло-зеленой блузке, несущую на чердак корзину со свежевыстиранным бельем. Однако горечи при этом он не испытывал. В чужеродности людей, заселивших дома между трамвайной линией и буковыми холмами (а люди эти действительно были ему чужими), было что-то умиротворяющее, заглушавшее тревогу в сердце. В минуты, когда на верандах и в садах замирали слова и жесты, когда хотелось остановиться на дорожке и, прикрыв глаза ладонью, смотреть на большое красное солнце над лесом позади Собора, в минуты, когда ослабевала ненасытная жажда жизни и ненависть уступала место уверенности, что ничто не нарушит сна, - в такие минуты все у него внутри тихо оседало, точно тонкие слои пепла.
А потом, около шести, когда в глубине квартала начинали бить колокола Собора, к которым присоединялись, всегда чуть запаздывая, колокола костела цистерцианцев, и этот отдаленный звон увязал в густой листве лип, груш и яблонь, заглушая уже стихающий уличный гомон, перед глазами вновь возникали знакомые места, дома, комнаты, лица, но душу не трогали картины города, которого больше нет, - память будто лишь небрежно тасовала побуревшие фотографии перед тем, как швырнуть в огонь. "Нельзя так жить!" - вдруг возвращались слова Анны. Но сейчас - не то что раньше! - слова эти не могли его ранить. А почему, собственно, нельзя так жить? Ханеман откладывал книжку, которую - раскрытой - держал на коленях, и, полузакрыв глаза, прислушиваясь к шороху пластинчатых листьев березы, ощущая под пальцами шершавую зелень матерчатого переплета, позволял вовлечь себя в эту игру образов прошлого, очищенного от всего, что причиняет боль. Теперь, когда пятнышки солнечного света и тени веток все медленнее колыхались на фасаде дома Биренштайнов, не только он, но и все вокруг застывало в сонной полужизни, будто раздумывая, что избрать: томительные желания или смерть. И даже - так ему казалось, - даже сердце замедляло свой безостановочный бег. Звуки, шорохи, все прекрасное и чуждое поселялось в душе лишь на миг, ибо память, без труда избавляясь от навязанной ей - как ему представлялось - докучливой обязанности хранить увиденное и услышанное, не замутняла чистоты впечатлений. Он ощущал в себе пустоту, но то не была пустота, вызывающая страх, то была добрая пустота, когда ничто не отгораживает нас от сути вещей.
И тогда, слегка ошеломленный этой свободой, он машинально прикасался к стоящей на письменном столе плоской бронзовой вазе, украшенной двумя дельфинами (на подставке чернели буковки "1909 Palast Kaffee"), брал в руки фарфоровую шкатулочку со сценой в саду на крышке, переставлял из-под лампы с надписью "Alsace-Lorraine" на другой конец стола светлую фигурку пастушки с ягненком, смотрел, не удастся ли залепить трещину в гипсовом рыбаке с большой чешуйчатой рыбой под мышкой. Все эти претенциозные безделушки, поблескивавшие на полках буфета и на этажерке красного дерева, отнюдь не были для него крохами уже не существующего города, в который ему бы хотелось вернуться. Когда-то он посмеивался, наблюдая, как мать загромождает гостиную синим и позолоченным фарфором, как населяет полочки ореховой горки роем китайских танцовщиков в стиле рококо, майоликовыми японками, персами в доспехах из папье-маше, как расставляет за стеклом пирамиды чашек Розенталя и Верфеля. Ему не хотелось даже смотреть на кокетливых пастушек с золотисто-кудрявыми ягнятами, на воинственные позы самураев из черного дерева и самодовольные ухмылки гипсовых рыбаков, похваляющихся крупными рыбинами с золотой чешуей.