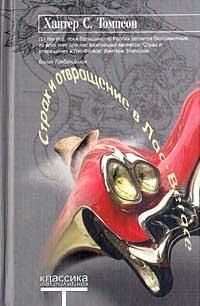Чарльз Диккенс - Холодный дом (главы XXXI-LXVII)
По той же причине я едва осмеливаюсь рассказать о том, что чувствовала, когда была в бреду, то есть о том времени, - этот период казался мне одной длинной ночью, хотя, вероятно, продолжался несколько дней и ночей, - о том времени, когда мне чудилось, будто я с огромным трудом карабкаюсь по каким-то гигантским лестницам, неотступно стараясь во что бы то ни стало добраться до верхушки, но, как червяк, которого я когда-то видела на садовой дорожке, непрестанно отступаю перед каким-нибудь препятствием и поворачиваю назад, а потом снова силюсь подняться наверх. Иногда я понимала очень ясно, но чаще всего смутно, что лежу в постели, и тогда разговаривала с Чарли, чувствовала ее прикосновение и прекрасно ее узнавала, однако ловила себя на том, что жалуюсь ей: "Ох, Чарли, опять эти бесконечные лестницы... опять и опять... громоздятся до самого неба!", и все-таки снова старалась подняться по ним.
Смею ли я рассказать о тех, еще более тяжелых днях, когда в огромном темном пространстве мне мерещился какой-то пылающий круг - не то ожерелье, не то кольцо, не то замкнутая цепь звезд, одним из звеньев которой была я! То были дни, когда я молилась лишь о том, чтобы вырваться из круга, - так необъяснимо страшно и мучительно было чувствовать себя частицей этого ужасного видения!
Быть может, чем меньше я буду говорить об этих болезненных ощущениях, тем менее скучной и более понятной будет моя повесть. Я не потому описываю их здесь, что хочу заставить кого-то страдать от жалости ко мне, и не потому, что хоть сколько-нибудь страдаю сама, вспоминая о них. Но ведь, если бы мы глубже понимали природу этих странных недугов, мы, быть может, лучше умели бы их облегчать.
Покой, который за этим последовал, долгий сладостный сон и блаженный отдых, когда я от слабости была совершенно равнодушна к своей судьбе и могла бы (так мне по крайней мере кажется теперь) узнать, что вот-вот умру, и не почувствовать ничего, кроме сострадания к тем, кого покидаю, - все это, пожалуй, более понятно для других. В таком состоянии я была, когда однажды для меня вдруг снова засиял свет, а я вздрогнула и с безграничной радостью, описать которую невозможно никакими восторженными словами, поняла, что ко мне вернулось зрение,
Я слышала, как моя Ада день и ночь плачет за дверью, слышала, как она взывает ко мне, говоря, что я жестокая и не люблю ее; слышала ее просьбы и мольбы позволить ей войти, чтобы ухаживать за мной и утешать меня, не отходя от моей постели. Но когда я смогла говорить, я твердила только одно: "Ни за что, моя милая девочка, ни за что!" - и беспрестанно напоминала Чарли, чтобы она не впускала в комнату мою любимую, все равно, останусь я в живых или умру. Чарли была мне верна в это трудное время - ее маленькие руки и большое сердце держали дверь на запоре.
Но вот мое зрение стало восстанавливаться; лучезарный свет с каждым днем сиял для меня все ярче, я уже могла читать письма моей милой подруги, которые получала от нее каждое утро и каждый вечер; могла целовать их и класть под голову, зная, что Аде это не повредит. Я снова могла видеть, как моя маленькая горничная, такая нежная и заботливая, ходит по нашим двум комнатам, наводя порядок, и по-прежнему весело болтает с Адой, стоя у открытого окна. Я могла теперь понять, почему у нас в доме так тихо, - это о моем покое заботились все те, кто всегда был так добр ко мне. Я могла плакать от чудесной, блаженной полноты сердца и, совсем слабая, чувствовала себя не менее счастливой, чем когда была здоровой.
Мало-помалу я стала набираться сил. Вместо того чтобы лежать и с каким-то странным равнодушием следить за всем, что делалось для меня, словно это делалось для кого-то другого, кого мне было лишь чуть-чуть жаль, я начала помогать тем, кто за мной ухаживал, сперва понемногу, потом все больше и больше, и, наконец, когда я смогла обслуживать сама себя, ко мне вернулись интерес и любовь к жизни.
Как хорошо я помню тот блаженный день, когда меня впервые усадили в постели, заложив мне за спину подушки, чтобы я смогла отпраздновать свое выздоровление радостным чаепитием с Чарли! Эта девочка - наверное, она была послана в мир, чтобы помогать слабым и больным, - была так счастлива, так усердно хлопотала и так часто отрывалась от своей возни, чтобы положить голову мне на грудь, приласкать меня и воскликнуть с радостными слезами: "Как хорошо! Как хорошо!", что мне пришлось сказать ей:
- Чарли, если ты будешь продолжать в том же духе, мне придется снова улечься, милая, потому что я слабее, чем думала.
Тогда Чарли притихла, как мышка, и с сияющим личиком принялась бегать из комнаты в комнату, - от тени к божественному солнечному свету, от света к тени, а я спокойно смотрела на нее. Когда все было готово и к кровати моей придвинули хорошенький чайный столик, покрытый белой скатертью, заставленный всякими соблазнительными лакомствами и украшенный цветами, - столик, который Ада с такой любовью и так красиво накрыла для меня внизу, - я почувствовала себя достаточно крепкой, чтобы заговорить с Чарли о том, что уже давно занимало мои мысли.
Сначала я похвалила Чарли за то, что в комнате у меня так хорошо; а в ней и правда воздух был очень свежий и чистый, все было безукоризненно опрятно и в полном порядке, - прямо не верилось, что я пролежала здесь так долго. Чарли очень обрадовалась и просияла.
- И все-таки, Чарли, - сказала я, оглядываясь кругом, - здесь недостает чего-то, к чему я привыкла.
Бедняжка Чарли тоже оглянулась кругом и покачала головой с таким видом, словно, по ее мнению, все было на месте.
- Все картины висят на прежних местах? - спросила я.
- Все, мисс, - ответила Чарли.
- И мебель стоит, как стояла. Чарли?
- Да, только я кое-что передвинула, чтобы стало просторнее мисс.
- И все-таки, Чарли, - сказала я, - мне недостает какой-то вещи, к которой я привыкла. А! Теперь, Чарли, я поняла, какой! Я не вижу зеркала.
Чарли встала из-за стола, под тем предлогом, что забыла что-то принести, убежала в соседнюю комнату, и я услышала, как она там всхлипывает.
Я и раньше очень часто думала об этом. Теперь я убедилась, что так оно и есть. Слава богу, это уже не было для меня ударом. Я позвала Чарли, и она вернулась, заставив себя улыбнуться, но, подойдя ко мне, не сумела скрыть своего горя, а я обняла ее и сказала:
- Это все пустяки, Чарли. Теперь я, наверное, выгляжу иначе, чем раньше, но и с таким лицом жить можно.
Вскоре я настолько поправилась, что уже могла сидеть в большом кресле и даже переходить неверными шагами в соседнюю комнату, опираясь на Чарли. Из этой комнаты зеркало тоже унесли, но от этого бремя мое не сделалось более тяжким.
Опекун все время порывался меня навестить, и теперь у меня уже не было оснований лишать себя счастья увидеться с ним. Он пришел как-то раз утром и, войдя в комнату, сначала только обнимал меня, повторяя: "Моя милая, милая девочка!" Я давно уже знала - кто мог знать это лучше меня? - каким глубоким источником любви и великодушия было его сердце; а теперь подумала: "Так много ли стоят мои пустяковые страдания и перемена в моей внешности, если я занимаю в этом сердце столь большое место? Да, да, он увидел меня и полюбил больше прежнего; он увидел меня, и я стала ему дороже прежнего; так что же мне оплакивать?"
Он сел рядом со мной на диван, обняв и поддерживая меня одной рукой. Некоторое время он сидел, прикрыв лицо ладонью, но когда отнял ее, заговорил как ни в чем не бывало. Я не встречала и никогда не встречу более обаятельного человека.
- Девочка моя, - начал он, - какое это было грустное время! И какая моя девочка стойкая, наперекор всему!
- Все к лучшему, опекун, - сказала я.
- Все к лучшему? - повторил он нежно. - Конечно, к лучшему. Но мы с Адой были совсем одинокие и несчастные; но ваша подруга Кедди то и дело приезжала и уезжала; но все в доме были растерянны и удручены, и даже бедный Рик присылал письма - ##и мне тоже@@, - так он беспокоился о вас!
Ада писала мне про Кедди, но о Ричарде - ни слова. Я сказала об этом опекуну.
- Видите ли, дорогая, - объяснил он, - я считал, что лучше не говорить ей о его письме.
- Вы сказали, что он писал ##и вам тоже@@, - промолвила я, сделав ударение на тех же словах, что и он. - Как будто у него нет желания писать вам, опекун... как будто у него есть более близкие друзья, которым он пишет охотнее!
- Он думает, что есть, моя любимая, - ответил опекун, - и даже гораздо более близкие друзья. Говоря откровенно, он написал мне поневоле, только потому, что бессмысленно было посылать письмо вам, не надеясь на ответ, написал холодно, высокомерно, отчужденно, обидчиво. Ну что ж, милая моя девочка, мы должны отнестись к этому терпимо. Он не виноват. Под влиянием тяжбы Джарндисов он переменился и стал видеть меня не таким, какой я есть. Я знаю, что под ее влиянием не раз совершались подобные перемены, и даже еще худшие. Будь в ней замешаны два ангела, она, наверное, сумела бы испортить даже их ангельскую природу.