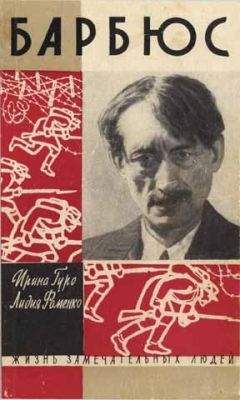Анри Барбюс - Огонь
Мы идем дальше вдоль домов. У дверей выстроились телеги с бочками. Окна, выходящие на улицу, расцветились пестрыми банками консервов, пучками трута, всем, что вынужден покупать солдат. Почти все крестьяне занимаются бакалейной торговлей. Местная торговля развивалась медленно, но теперь первый шаг сделан; каждый крестьянин пустился в спекуляцию, он охвачен страстью к цифрам, ослеплен умножением.
Раздается колокольный звон. Открывается шествие. Военные похороны. На передке обозной телеги сидит солдат; он везет гроб, покрытый знаменем. За гробом идет полувзвод солдат, унтер, полковой священник и человек в штатском.
- Эх, куцые похороны! - говорит Ламюз. - Здесь поблизости лазарет. Пустеет, ничего не поделаешь. Умершим хорошо! Позавидуешь! Но только иногда, не всегда...
Мы прошли мимо последних домов. За деревней, в поле, расположились полковые обозы. Походные кухни и дребезжащие повозки, которые следуют за ними со всякой утварью, фургоны Красного Креста, грузовики, фуражные телеги, одноколка почтальона.
Вокруг всех этих повозок теснятся палатки ездовых и сторожей. Между ними, на голой земле, стоят кони и стеклянными глазами смотрят на клочок неба. Четыре солдата устанавливают стол. Под открытым небом дымит кузница. Этот пестрый людный поселок раскинулся в развороченном поле, где параллельные и дугообразные колеи каменеют на солнце; везде уже валяются отбросы.
На краю лагеря выделяется чистотой и опрятностью белый фургон. Можно подумать, что это роскошный ярмарочный балаган на колесах, где берут дороже, чем в других.
Это знаменитый стоматологический фургон, который искал Блер.
А вот и сам Блер; он его разглядывает. Он, наверно, уже давно вертится здесь и не сводит с фургона глаз. Дивизионный санитар Самбремез возвращается из деревни и поднимается по откидной раскрашенной лестнице к дверце фургона. Он держит в руках большую коробку бисквитов, булку и бутылку шампанского. Блер его окликает:
- Эй, толстозадый, эта колымага - зубоврачебная?
- Здесь написано, - отвечает Самбремез, дородный коротышка, чистый, выбритый, с тяжелым белым подбородком. - Если не видишь, обратись не к зубному врачу, а к ветеринару, чтоб он протер тебе буркалы.
Блер подходит и разглядывает это учреждение.
- Ишь штуковина! - говорит он.
Он подходит еще раз, отходит, колеблется, прежде чем доверить свою челюсть врачу. Наконец решается, ставит ногу на ступеньку и исчезает за дверью.
* * *
Мы идем дальше... Сворачиваем на тропинку, где высокие кустарники обсыпаны пылью. Шумы затихают. Солнце парит, жарит и печет дорогу, расстилает ослепительные жгуче-белые полосы и трепещет в безоблачном синем небе.
На первом повороте слышится легкий скрип шагов, и прямо перед нами Эдокси!
Ламюз испускает глухое восклицание. Может быть, он опять воображает, что она ищет именно его, он еще верит в какую-то милость судьбы. Всей своей громадой он направляется к Эдокси.
Она останавливается среди боярышника и смотрит на Ламюза. Ее до странности худое, бледное лицо выражает тревогу; веки великолепных глаз бьются. Она стоит с непокрытой головой; полотняный корсаж вырезан на груди. Увенчанная золотом, эта женщина вблизи в самом деле обольстительна. Лунная белизна ее кожи привлекает и поражает. Глаза блестят, зубы сверкают между приоткрытых губ, красных, как сердце.
- Скажите!.. Я хочу вам сказать!.. - задыхаясь, говорит Ламюз. - Вы мне так нравитесь!..
Он протягивает руку к желанной женщине.
Она с отвращением отшатывается.
- Оставьте меня в покое! Вы мне противны!
Ламюз хватает своей лапой ручку Эдокси. Эдокси пытается ее вырвать. Яркие волосы распустились и трепещут, как пламя. Ламюз тянется к ней, вытягивает шею. Он хочет поцеловать Эдокси. Он хочет этого всем телом, всем существом. Он готов умереть, лишь бы коснуться ее губами.
Но она отбивается, испускает приглушенный крик; ее шея вздрагивает; прекрасное лицо обезображено злобой.
Я подхожу и кладу руку на плечо Ламюза, но мое вмешательство уже не требуется; Ламюз что-то бормочет и отступает; он побежден.
- Вы с ума сошли! - кричит ему Эдокси.
- Нет! - стонет несчастный Ламюз, ошеломленный, подавленный, обезумевший.
- Чтоб это больше не повторялось, слышите! - кричит она.
Она уходит, все трепеща; он даже не смотрит ей вслед; он опустил руки, разинул рот и стоит там, где стояла она; он уязвлен в своей плоти, очнулся и уже не смеет молить.
Я веду его с собой. Он плетется молча, сопит, тяжело дышит, словно долго бежал.
Он опускает большую голову. В безжалостном свете вечной весны он напоминает бедного циклопа, который когда-то бродил на древних берегах Сицилии, похожий на чудовищную игрушку, осмеянный и покоренный сияющей девушкой-ребенком...
Проходит бродячий виноторговец, подталкивая тачку, на которой горбом торчит бочка; он продал несколько литров часовым. Лицо у него желтое, плоское, как сыр камамбер; редкие волосы превратились в пыльные волокна; он так худ, что его ноги болтаются в штанах, словно привязанные к туловищу веревками. Он исчезает за поворотом дороги. На краю деревни, под крылом покачивающейся скрипучей дощечки, на которой написано ее название, праздные солдаты в карауле говорят об этом бродячем полишинеле.
- Поганая морда! - восклицает Бигорно. - И знаешь, что я тебе скажу? Столько "шпаков" как ни в чем не бывало болтается на фронте! Не надо их сюда пускать, и особенно неизвестных молодчиков!
- Ты загибаешь, вошь летучая! - отвечает Корне.
- Помалкивай, старая подметка! - настаивает Бигорно. - Напрасно им доверяют. Уж я знаю, что говорю.
- А Пепер отправляется в тыл, - говорит Канар.
- Здешние бабы все - рожи, - бормочет Ла Моллет.
Остальные солдаты глядят по сторонам и наблюдают за петлями и поворотами двух неприятельских аэропланов. От игры лучей эти механические жесткие птицы кажутся то черными, как вороны, то белыми, как чайки; вокруг них в лазури взрывается шрапнель, словно хлопья снега неожиданно посыпались в жаркий день.
* * *
Мы возвращаемся. К нам подходят два солдата. Это Карасюс и Шейсье.
Они сообщают, что повар Пепер отправляется в тыл, по закону Дальбьеза, и зачисляется в ополчение.
- Вот теплое местечко для Блера! - говорит Карасюс, у которого забавный большой нос совсем не соответствует лицу.
По деревне кучками или парами проходят солдаты; их соединяет переплетенными нитями беседа.
Отдельные солдаты подходят друг к другу, расходятся, потом сходятся опять, словно их притягивает друг к другу магнит.
Вдруг бешеная толкотня: в толпе взлетают белые листки. Это газетчик продает по два су газеты, которые стоят одно су. Фуйяд остановился посреди дороги; он худ, как заячья лапка. На солнце сияет розовое, как ветчина, лицо Паради.
К нам подходит Бике; одет не по форме: в куртке и суконной шапке. Он облизывает губы.
- Я встретил ребят. Мы выпили. Ведь завтра придется опять приниматься за работу, и первым делом надо будет почистить свое барахло и винтовку. С одной только шинелью сколько будет возни! Это уже не шинель, а какая-то бронированная подкладка.
Появляется канцелярист Монтрей; он зовет Бике:
- Эй, стрекулист! Письмо! Я ищу тебя уже целый час! Никогда не усидит на месте. Юла!
- Не могу ж я поспеть всюду зараз, толстый мешок! Давай-ка сюда!
Он рассматривает конверт, взвешивает письмо в руке и, распечатывая его, сообщает:
- Это от моей старушки!
Мы замедляем шаг. Бике читает, водит пальцем по строчкам, убежденно покачивает головой и шевелит губами, как молящаяся женщина.
Мы подходим к центру деревни; толпа увеличивается. Мы козыряем майору и черному священнику, который идет рядом с ним, как прогуливающаяся дама. Нас окликают Пижон, Генон, молодой Эскютнер и стрелок Клодор. Ламюз кажется слепым и глухим; он способен только двигаться.
Подходят Бизуарн, Шанрион, Рокет и громко сообщают великую новость:
- Знаешь, Пепер отправляется в тыл!
- Забавно, как они там ничего не знают! - говорит Бике, отрываясь от письма. - Старуха обо мне беспокоится.
Он показывает мне строки материнского послания. "Когда ты получишь мое письмо, - читает он по складам, - ты, наверно, будешь сидеть в грязи и холоде, без еды, без питья, мой бедный Эжен!.."
Он смеется.
- Она написала это десять дней тому назад. Вот уж попала пальцем в небо! Теперь не холодно: сегодня отличная погода. Нам не плохо: у нас своя столовка. Раньше мы бедствовали, а теперь нам хорошо.
Мы возвращаемся в нашу собачью конуру, обдумывая эту фразу. Ее трогательная простота меня волнует; она выражает душу, множество душ. Только показалось солнце, только почувствовали мы луч света и устроились чуть поудобней, и вот ни мучительное прошлое, ни ужасное будущее больше не существуют... "Теперь нам хорошо". С плохим покончено.
Бике, как барин, садится за стол и собирается писать. Он старательно раскладывает и проверяет бумагу, чернила, перо, улыбается и выводит ровные, круглые буквы на маленьком листке.