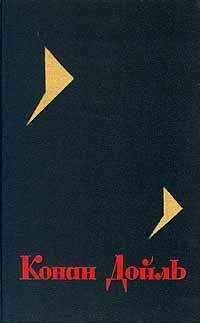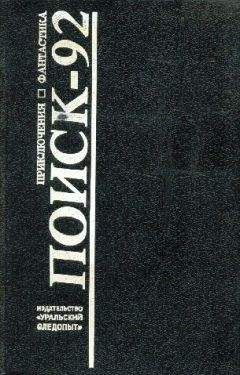Ананта Мурти - Самскард
Репетиция не ладилась. Актеры закрыли окна и двери, чтоб уличный шум не мешал, закурили покупные сигареты, но не шло дело -- и все. Шрипати роли не досталось, он явился просто так--не мог устоять перед соблазном. Актерам прислали поднос горячего риса и большой полный кофейник, они ели, почти не переговариваясь. Все думали о Наранаппе. Около полуночи Нагараджа незаметно подмигнул Ганеше. Ганеша подтолкнул Мандмунатху, игравшего женские роли, а тот -- Ганганну. Ганганна потихоньку дернул Шрипати за край дхоти. Когда тайный знак обошел весь круг посвященных, было объявлено, что репетиция закончена. Лишние ушли, тогда Нагараджа запер дверь на задвижку, с важным видом откинул крышку сундука и, напевая развеселую песенку, которую любил Наранаппа, извлек из него две бутылки. Бутылки были уложены в мешок вместе со старательно упакованными стаканами и остатками риса, завернутыми в банановый лист.
-- Все готовы?--спросил Нагараджа.
-- Готовы!
Они друг за другом тихонько спустились по ступенькам.
-- Минуту!--возгласил Мандмунатха, подражая автобусному кондуктору, и ловко опустил в карман нарезанный лимон.
Молодые люди вышли за калитку и отправились на реку. Шрипати посвечивал своим фонариком.
-- Ох, Наранаппа!--вздохнул Нагараджа.--Наранаппа, гуру наш! Вот кто мог целую бутылку выпить, а потом час играть на барабане--и ни разу не сбиться!
Теперь можно вообразить, что в мире нет никого, кроме их пятерых и еще звезд в небе, которые будут наблюдать, как с помощью спиртного молодые люди из робких карликов вырастут в могучих гигантов.
Паузы в беседе заполнялись бормотанием реки, убеждавшим друзей в их отъединенности от мира.
Когда алкоголь начал действовать, Шрипати сказал прерывающимся голосом:
-- Нет у нас больше друга. Умер.
-- Умер,--подтвердил Нагараджа, подбирая рис с листа.--Душа нашей компании. Во всей округеникто так барабаном не владел.
Мандмунатха высосал лимон, но язык его все равно плохо ворочался, и он только повторял:
-- Чандри... Чандри... Чандри...
-- Чандри!--восторженно подхватил Шрипати.--Кто бы что ни говорил, что бы ни квакали там брахмины, слово даю, на сто миль другую такую не найти --и красавица, и умница, и сердце золотое. Слово даю: нашлась бы вторая Чандри, я б ради нее от касты отказался! Ну и что--проститутка! Эта проститутка такой женой Наранаппе была--лучше не надо!
Теперь разговор пошел о женщинах вообще -- знатоки тщательно оценивали и сравнивали достоинства всех низкокастовых женщин округа. Шрипати спокойно слушал -- один только Наранаппа знал про Белли, другие и не подозревали ни о чем. Хорошо, что они не знают.
Шрипати принялся раскупоривать вторую бутылку.
-- Лучший наш друг умер и лежит без обряда, никто не решается похоронить его по-человечески... А мы сидим тут развлекаемся...
Из глаз Шрипати покатились слезы. Другие тоже захлюпали носами.
-- Ну,-- спросил Шрипати,-- так кто мужчина среди нас?
-- Я!-- хором отозвалось четыре голоса.
Нагараджа посмотрел на девичье лицо Мандмунатхи.
-- А ты-то куда? Ты же у нас девица, ты наша Садарама, Шакунтала наша.-- Он изобразил, будто целует Мандмунатху.
-- Если вы и впрямь мужчины,-- не унимался Шрипати,-- так я скажу, что надо делать. Не будет у нас больше такого друга, как Наранаппа, ясно? Окажем ему последнюю услугу, сейчас все вместе встанем, пойдем за телом и потихоньку сами сожжем его. Ну что, пошли?
Все шумно допили стаканы и гурьбой повалили через речку, предводительствуемые карманным фонариком Шрипати.
Аграхара не подавала признаков жизни. Пьяные брахмины, ничего не боясь, подошли к дому Наранаппы и толкнули дверь. Смрад так и ударил им в нос, но пьяный запал погнал их вверх по лестнице. Шрипати повел лучом по комнате. Пусто. Где тело? Где? Тело Наранаппы исчезло. Леденящий страх объял всех пятерых.
-- Наранаппа призраком стал,-- пролепетал Нагаряджа.-- И ушел.
Пальцы его разжались, и мешок с бутылками грохнул- ся об пол.
Когда безумная Лакшмидевамма распахнула свою бессонную громогласную дверь и вывалилась с проклятиями за порог, по улице скачками мчались тени.
-- Демоны!!!-- завизжала она.
III
Проторчав на улице до глубокой ночи и отчаявшись дождаться Пранешачарию, брахмины разошлись по домам, накрепко закрыли окна и двери и улеглись спать, стараясь неглубоко вдыхать омерзительную вонь, от которой выворачивало внутренности.
Брахмины ворочались на холодном полу, одолеваемые голодом и страхом. Будто из иного мира донеслись до них шаги на улице, скрип колес, дикий визг безумной Лакшми, собачий вой.
Брахминам казалось, будто душа вот-вот расстанется с телом, будто аграхара вдруг оказалась в глухом лесу, будто боги бросили их на произвол судьбы. В домах дети жались к родителям, семья превращалась в нелепый комок тел, трясущихся во мраке. Когда ночь наконец прошла и солнечные лучи, пробившись сквозь щели, зажгли в домах блики надежды, двери стали открываться и выпускать на улицу людей. Но, оглядевшись, брахмины снова увидели грифов, целые тучи громадных хищных птиц. Грифы разогнали воронье и прочно расположились на крышах. На грифов кричали, бросали в них чем попало--они не двигались с места. Тогда брахмины снова начали колотить в гонги и дуть в раковины.
Благословенные звуки разбудили Пранешачарию, который ничего не мог понять--гонгами и раковинами полагалось встречать только двенадцатый день лунного месяца... Но тут он все вспомнил, и смятение охватило его душу. Он мерно вышагивал по дому, прищелкивал пальцами, тупо спрашивал себя:
-- Как мне поступить? Как же мне поступить?
Когда он подавал жене ее утреннее лекарство, руки его дрожали. Поднося чашку к губам Бхагирати, он заглянул в ее запавшие глаза, беспомощные, тусклые глаза калеки--символа его самоотречения во имя долга главы семьи,--колени его дрогнули и подогнулись, как бывает во сне, когда неотвратимо проваливаешься в бездну. Больше двадцати лет шел он привычной тропой, относился к жене, как врач к больной, исполняясь нежности и сострадания,--и вдруг очутился на краю пропасти. Пранешачария вздрогнул от неожиданного приступа отвращения, почувствовал разом все мерзкие запахи, которые всегда испускало пораженное болезнью тело.
Словно обезьяний детеныш, цеплявшийся за шерсть матери, перелетавшей с ветки на ветку, и вдруг упустивший ее, Пранешачария чувствовал, как утрачивают смысл привычные действия и обряды, за которые он держался всю жизнь, и он падает, падает, падает.
Держался ли он за свой долг, свою дхарму, ухаживая за бессильным телом этой женщины, жалким, нищенским телом жены, или, может быть, долг держал его, вел его за руку этой тропой через поступки и убеждения всей его жизни?
Когда они поженились, ему было шестнадцать лет, а ей двенадцать. Он тогда задумывался над тем, не уйти ли ему вообще в отшельники. Отшельничество чуть не с самого детства было его идеалом, испытанием, которым ему хотелось проверить свои силы. Он сознательно взял себе в жены калеку. Потом он оставил жену у ее осчастливленных родителей, а сам уехал в Бенарес учиться. Выучившись, вернулся за 'женой--достигший вершин учености, постигший глубины веданты. Он видел в жене испытание, которое назначил ему бог, чтобы проверить, достанет ли у него сил жить самоотречением,-- для этой цели бог и послал ему в жены калеку. Пранешачария ухаживал за Бхагирати, упиваясь сознанием своего особого предназначения. Он готовил ей пищу, кормил ее с ложечки, тщательнейшим образом выполнял ежедневные молитвенные обряды, читал и толковал для брахминов священные Книги -- непрестанно накапливая добродетели с тем же пылом, с каким скупец копит деньги. В этот месяц было прочитано сто тысяч мантр, и все они сосчитаны, в следующий месяц еще сто тысяч плюс сотня в пост, на одиннадцатый день лунного месяца. Он умножал свое достояние--миллионы миллионов покаяний, отсчитанных на душистых шариках четок.
Как-то в диспуте ученый брахмин задал ему вопрос:
-- Известно, что все живое содержит в себе три качества--самоуглубленность, действенность, леность -- и что люди различаются тем, какое из качеств преобладает в них. Так думаете ли вы, что освобождения от череды рождений и смертей может достичь лишь тот, кто созерцателен? Не означает ли это обреченность людей иного склада? Что остается от надежды, если известно, что желаемое не может быть достигнуто?
-- В человеке вялой души, в котором преобладает тьма,-- отвечал он,--нет устремленности к освобождению -- это главное, что следует помнить. А если так, то что способен испытать человек вялой души, не достигая того, чего и не желал он? Нельзя сказать: я желаю быть самоуглубленным по природе, можно сказать: я углублен в себя по природе. Только душа, углубленная в себя, жаждет единения с богом.
Пранешачария давно сказал себе: "Я углублен в себя по природе. Я родился таким. Жена-калека есть алтарь, на который я приношу в жертву все--ради того, чтобы растить в себе добро".