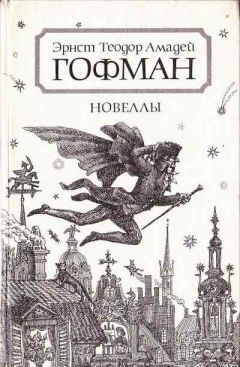Белькампо - Избранное
Пока я в досаде брел по улице, школяр шел следом; мы пошли к нему на квартиру; книга, которую он хотел мне дать, оказалась английской грамматикой для итальянцев. Это могло бы увести меня чересчур далеко от цели; тогда вместо грамматики он подарил мне книжку по истории Италии, которую я принял с благодарностью. Страна без истории все равно что человек без воспоминаний, появившийся на свет мановением волшебной палочки. Промежуток времени, в который он живет, выпадает ему произвольно, и без опыта прежних поколений человек поэтому не вправе формировать собственный взгляд на вещи. Люди с великим тщанием сберегают жалкие куски желтого металла, но почти никто из них уже ничего не смог бы рассказать о своих прадедах и прабабках.
По правде говоря, каждой деревне надо завести собственного платного хрониста, который бы удерживал для будущего все примечательное из пестрой череды событий.
Под вечер я каменистой тропой добрался до затерянной в горах деревушки Сан-Рокко. «Вот в таких маленьких гнездах и прячется мое счастье», — подумалось мне тогда. В единственной таверне мне посулили casetta — клетушку с сеном; я поел здесь пончиков, яиц и каштанов, все это приготовленное на оливковом масле, вино заработал своим искусством, после чего вместе с моделью, Рабочим из Пьемонта, пошел прогуляться по узким тропкам вдоль обрывистых склонов, представляющих Уйму удобных случаев сбросить ничего не подозревающего спутника в пропасть. Далеко за Геную тянулись внизу Цепочной огней приморские деревушки и поместья.
Потом хозяин таверны проводил меня к месту ночлега. Это была низенькая постройка с каменным полом и без всякого сена. К счастью, я заметил в углу несколько мешков. Видимо, хозяину тоже стало не по себе — он ведь не знал, что у меня с собой есть пуховое одеяло, — и он предложил мне койку в доме, но я уперся и решил отомстить, причинив ему угрызения совести. В конце концов он оставил меня одного, и немного погодя я заснул в раздумье о превратностях бродячей жизни: одна ночь на пуховиках, другая на камнях, в одном доме встречают с любовью и уважением, из другого гонят, как собаку.
Утром из сострадания за ночные муки я был вознагражден чашкой кофе. Пробыв еще ровно столько, чтобы его выпить, я бодро направился вверх по тропе, через самую высокую гору полуострова, Монте-ди-Портофино, шестьсот десять метров над уровнем моря, а с нее по крутой вьючной тропе, петляющей зигзагами, вниз, к морю.
Там, в небольшой закрытой бухточке, лежит старое пиратское гнездо семьи Дориа, впоследствии ставшей одной из самых могущественных в Генуе и столь же преуспевшей в истреблении пиратов, сколь прежде в морском разбое.
Место настолько романтическое, что бередит фантазию, пробуждая целый рой видений. Узкий заливчик, врезающийся в берег между двумя отвесными скалами, омывает небольшую полоску берега, которая, далее обрамленная двумя рядами колонн, расширяется в перекрытую сводом широкую площадку. Над ней возвышается корсарский замок, нижний этаж в романском стиле, верхний — в готическом. Великолепно себе представляешь, как пиратские корабли входили в заливчик и бросали якоря, как спускали на воду шлюпки с добычей, как воротом подтягивали их с берега до замка, потом с довольными ухмылками поднимали награбленные сокровища через люки в замок. Стоящая на горе позади замка романская церковь с куполом говорит о том, что корсары были народ благочестивый. От сокровищ их, наверное, мало что осталось; по окнам было видно, что все строение разбито теперь на бедные рыбацкие квартиры; кой-где сушилось белье, висели вверх штанинами брюки, как будто из них вытряхнули человека.
И на сей раз я с величайшим удовольствием просидел с карандашом несколько часов над пейзажем; как мне показалось, в мой рисунок перешло из ландшафта и вправду что-то романтическое. Я решил, что вполне заработал себе на тарелку макарон, но, когда я осведомился в ресторанчике, уродливо перестроенном — видимо, расчете на знатных иностранных туристов, — сколько это блюдо стоит, потому что в Италии нужно обязательно спрашивать о цене загодя, хозяин ответил: «Две с половиной лиры». Для мотка мучных бечевок это чересчур дорого, и я не стал ходить вокруг да около, а прямо сказал об этом вслух. Однако итальянец так раздразнил мой желудок, расписывая свое макаронное чудо и напирая на самые роскошные и деликатесные качества кушанья — при этом его правый указательный палец то и дело буравил ямку в правой щеке, что в Италии означает верх одобрения, — что я в конце концов уступил. Но когда поданная мне порция, за исключением своих малых размеров, обнаружила полное сходство со всеми прочими, я рассердился и сказал, что есть не буду. Хозяин раза три обежал блюдо с макаронами, протягивая к ним руки, лицо же обратив к небесам, точно призывал отца небесного в свидетели своего потрясения от того, что кто-то может отвергать подобное яство. Я встал и пошел к выходу, он вдруг тоже ринулся к двери и плюнул на пол мне вслед. Ей-богу, я просто-напросто обязан был оплатить ему перестройку ресторана!
Теперь мне надо было проделать обратно всю дорогу вверх; рюкзак при этом, как я заметил, намного тяжелей. Начал накрапывать дождик, а когда я был уже на вершине, хлынул настоящий ливень, отвесные от безветрия струи дождя громко лупили по листве. Иногда внизу между деревьями показывалось море, и было прекрасно видно, что море не мокнет, хотя вода изливается в него потоками.
Скоро мне посчастливилось укрыться в стоящей на отшибе довольно мрачной харчевне, где я застал трех охотников за целой горой макарон. Один из них мельком взглянул в мою сторону и вдруг брякнул: «Не иначе как голландец». В такие мгновения убеждаешься, что мы составляем как-никак целый народ и от других народов отличаемся не только территорией. Я слегка оторопел, как бывает, если кто-то неожиданно высказывает вслух твои мысли и тогда думаешь: «Это опасный ясновидец». Но тут этнолог сказал другим, что все голландцы — прирожденные моряки или художники, и я успокоился. Ведь я тоже ходил под парусом, да к тому же еще рисую — таким образом, это абсурдное утверждение как нельзя лучше подкрепилось, и, надо думать, его автор теперь не отступится от него до последнего вздоха. Я, разумеется, тут же показал ему свои рисунки, мы Немного поторговались, после чего он купил у меня за пятнадцать лир пиратское гнездо — для художника миг незабываемый. Жаль, что всех опусов у меня оказалось гораздо меньше, чем в свое время у Адриана Брауэра,[17] и я не смог их высыпать наподобие золотого дождя, что пролился на ложе Данаи. Вместо этого я причалил к горе макарон, которую охотники уступили в полное мое распоряжение. Эта порция была раза в три побольше той за которую час назад с меня хотели содрать безбожную цену, и я узрел в этом благой знак, что провидение целиком одобрило мою отрицательную позицию в том уродском ресторане.
Кто любит живое, тому охотники не по душе: у него в голове не укладывается, что же у этих людей за сердце, если хорошая погода вызывает в них жажду убивать. На юге об этом лучше вообще не задумываться. Здесь живность и зверье ни во что не ставят. Тушку соловья ценят больше, чем его песни; в эпоху Возрождения такого, наверное, не бывало.
Когда опять подсохло, я спустился в Портофино, по-голландски — Узкую Гавань: в самом деле, здешняя бухта похожа на бутылку. Из чистого ухарства я снял за четыре лиры комнату; хозяйка гостиницы, старая итальянка, в конце каждого предложения благозвучнейшим образом и прямо-таки с трогательной интонацией пропевала: «Nevvero?» — «Не правда ли?» Меня долго не покидало чувство радости, что я нашел новый способ заработать на пропитание; за столом я все время ломал себе голову, каким еще образом можно добывать деньги, ибо отыскать красивые виды для своих пейзажей, а потом охочего до них покупателя — способ далеко не идеальный. Во-первых, приходится выкладывать весь товар лицом, на это уходит время, да и рисунки можно попортить; во-вторых, если все, что есть, выложишь покупателю, а он ничего не берет, то чувствуешь себя одураченным, что понапрасну тужился и метал бисер. Когда звонишь в дверь, а потом рисуешь, конечно, опять-таки мечешь бисер, но в этом случае противная партия тужится по крайней мере не меньше тебя, и чувство одураченности не наступает, особенно когда она приходит в ярость. И тут меня осенило: а что, если попробовать за бесценок делать беглые наброски прямо в кафе? Я понимал, конечно, что пороха не выдумал, но для меня эта идея была новой.
Сказано — сделано. На берегу бухточки, у самых волн, толпилось несколько маленьких таверн, куда я заглянул — и не ошибся. Трое парней, хозяйская дочка, еще не ложившаяся спать, каждый этюд по две лиры. Потом перестало получаться — видимо, от пристального разглядывания натуры утомились глаза, — но я был доволен и этим, дела пошли, впредь можно было за себя не опасаться. И с утешительным чувством, что к моим ногам брошен капитал, процентов с которого вполне хватит на житье, я лег в постель и тут же заснул.