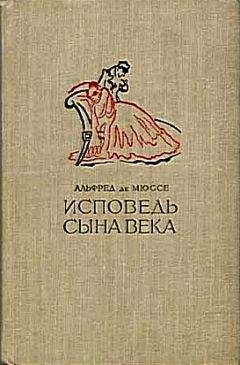Мюссе Де - Исповедь сына века
Чем больше я углублялся в свои мысли, тем сильнее разгорался мой гнев. Впрочем, был ли то гнев? Я и сам не знаю, как назвать волновавшее меня чувство. Несомненно одно - что безудержная жажда мести в конце концов одержала верх. Но как отомстить женщине? Я бы отдал все на свете, чтобы иметь в своем распоряжении оружие, которое могло бы ранить ее, но у меня не было этого оружия, у меня не было даже и того, каким воспользовалась она: я не мог отвечать ей на ее языке.
И вдруг я заметил за занавеской стеклянной двери чью-то тень. Это была проститутка, которая ждала меня в комнатке рядом.
Я совершенно забыл о ней.
- Послушайте! - вскричал я в исступлении, вскакивая с места. - Я любил, я любил, как безумец, как глупец. Я заслужил любые ваши насмешки. Но, черт возьми, сейчас я покажу вам кое-что, и вы, убедитесь, что я все же не так глуп, как вам кажется.
С этими словами я толкнул ногой стеклянную дверь, которая открылась, и показал молодым людям на девушку, забившуюся в угол.
- Войдите же, - предложил я Деженэ. - Вы считаете безумием любить порядочную женщину, вы любите только девок, - так взгляните на образчик вашей высокой мудрости, взгляните на особу, развалившуюся здесь, в этом кресле. Спросите у нее, всю ли ночь я провел под окнами госпожи ***, она кое-что расскажет вам об этом... Но это еще не все, - добавил я, - это еще не все, что я хочу сказать вам. Сегодня у вас ужин, завтра - загородная прогулка! Отлично, я еду с вами, и вы можете мне поверить, потому что с этой минуты я уже не покину вас. Мы будем неразлучны, мы проведем весь день вместе. У вас будут рапиры, карты, кости, пунш - все, что вы пожелаете, только не оставляйте меня одного. Итак, мы принадлежим друг другу - согласны? Я хотел сделать из своего сердца мавзолей любви; теперь я выброшу эту любовь в другую могилу; клянусь богом, я сделаю это, если бы даже мне пришлось вырвать ее вместе с собственным сердцем.
Сказав это, я сел на прежнее место, и когда друзья мои вошли в смежную комнатку, я ощутил, сколько радости может доставить удовлетворенное самолюбие. Если же найдется человек, которого удивит, что с этого дня я совершенно изменил свою жизнь, то он не знает человеческого сердца, не знает, что можно двадцать лет колебаться перед тем, как сделать шаг, но нельзя отступить, когда он уже сделан.
2
Когда учишься распутству, чувствуешь что-то вроде головокружения: вначале испытываешь какой-то ужас, смешанный с наслаждением, как на высокой башне. Робкий и тайный разврат унижает самого благородного человека, а в откровенном и смелом разгуле, в том, что можно назвать распутством на вольном воздухе, есть известное величие даже для человека самого порочного. Тот, кто с наступлением ночи, закутавшись в плащ, отправляется украдкой грязнить свою жизнь и тайком стряхивает с себя дневное лицемерие, похож на итальянца, который, не осмеливаясь вызвать врага на дуэль, наносит ему удар в спину. От укромного угла, где прячется человек, от ожидания ночи пахнет убийством, тогда как завсегдатая шумных оргий можно счесть почти что воином; тут есть нечто, напоминающее битву, какая-то видимость надменной борьбы. "Все это делают и скрывают; делай это и не скрывай". Так говорит гордость, и стоит только надеть эту броню, как в ней уже отражается солнце.
Говорят, что Дамокл видел над своей головой меч. Вот так и над развратниками словно нависает нечто такое, что беспрестанно кричит им: "Продолжай, продолжай, я держусь на волоске!" Экипажи с масками, которые видишь в дни карнавала, - точная картина их жизни. Обветшалая, открытая всем ветрам карета, пылающие факелы, которые озаряют густо набеленные лица; одни хохочут, другие поют; тут же суетятся какие-то существа, похожие на женщин, - это и в самом деле жалкое подобие женщин, еще не вполне утративших человеческий облик. Их ласкают, их оскорбляют, не зная ни как их зовут, ни кто они такие. Все это вместе взятое колышется и покачивается под горящей смолой факелов, в бездумном опьянении, над которым, говорят, надзирает некое божество. Иногда маски как будто наклоняются друг к другу и целуются. Кто-то вываливается от толчка на ухабе - что за важность? Одни откуда-то появляются, другие куда-то исчезают, и лошади несутся вскачь.
Но если первое, что вызывает в нас зрелище распутства, это - удивление, то второе - это омерзение, а третье - жалость. В нем действительно столько силы, или, вернее, такое злоупотребление силой, что зачастую люди самого возвышенного умственного и душевного склада невольно поддаются ему. Это кажется им отважным, опасным, и таким образом они расточают самих себя. Они привязаны к распутству, как Мазепа был привязан к дикому коню, они срастаются с ним, они делаются кентаврами и не замечают ни кровавого следа, который оставляют на деревьях лоскутья их кожи, ни волчьих глаз, которые багровеют, глядя им вслед, ни пустыни, ни стаи воронов.
Я окунулся в эту жизнь под влиянием обстоятельств, о которых я уже говорил, и теперь должен рассказать, что я там видел.
Когда я впервые увидел пресловутые сборища, называемые театральным балом-маскарадом, мне уже доводилось слышать о кутежах времен Регентства и о французской королеве, переодетой продавщицей фиалок. А на этих маскарадах я встретил продавщиц фиалок, переодетых маркитантками. Я ожидал найти там разврат, но, право же, его там нет. Увидев только потасовку, копоть и мертвецки пьяных девок среди разбитых бутылок, не назовешь все это развратом.
Когда я впервые увидел застольные кутежи, мне уже доводилось слышать об ужинах Гелиогабала и об одном греческом философе, который создал из чувственных наслаждений своего рода культ. Я ожидал найти нечто, напоминающее если не радость, то хотя бы забвение, а нашел там то, что хуже всего на свете, - скуку, пытающуюся насладиться жизнью, и англичан, которые говорили друг другу: "Я делаю то-то и то-то, стало быть я веселюсь. Я заплатил столько-то золотых, стало быть я испытываю столько-то удовольствия". И они перетирают на этом жернове свою жизнь.
Когда я впервые увидел куртизанок, мне уже доводилось слышать об Аспазии, которая, сидя на коленях у Алкивиада, вела споры с Сократом. Я ожидал какой-то развязности, наглости и вместе с тем веселости, добродушия и живости, чего-то искрометного, как шампанское, а нашел разинутый рот, неподвижный взгляд и вороватые руки.
Когда я впервые увидел титулованных куртизанок, я уже читал Боккаччо, Банделло и прежде всего Шекспира. Мне снились разряженные красавицы, эти херувимы ада, эти непринужденные в обращении прожигательницы жизни, которым кавалеры Декамерона при выходе из церкви подают освященную воду. Много раз я набрасывал карандашом такие головки, столь поэтично безрассудные, столь изобретательные в своей отваге; я представлял себе этих сумасбродных возлюбленных, которые, метнув в вас взглядом, заставляют пережить целый роман и шествуют по жизни плавной и в то же время стремительной поступью, словно некий сирены. Я помнил тех фей из "Новых новелл", что всегда опьянены любовью, если не пьяны ею. А нашел я женщин, которые только и знают, что пишут уйму писем и назначают точные часы свиданий, умеют только лгать незнакомым людям и прятать свою низость под маской лицемерия и для которых все это сводится к тому, чтобы отдаться, а потом позабыть.
Когда я впервые вошел в игорный дом, мне уже доводилось слышать о потоках золота, о целых состояниях, выигранных в какие-нибудь четверть часа, и об одном вельможе при дворе Генриха IV, который выиграл на одну карту сто тысяч экю - стоимость его платья. Я же нашел гардеробную, где рабочие, имеющие всего одну рубашку, берут напрокат фрак за двадцать су в вечер, где у входа сидят жандармы, а голодные люди ставят на карту последний кусок хлеба и пускают себе пулю в лоб.
Когда я впервые увидел те сборища, публичные или закрытые, куда находит доступ та или иная из тридцати тысяч женщин, которым в Париже позволено продаваться, мне уже доводилось слышать о сатурналиях всех времен, о всевозможных оргиях от эпохи Вавилона до древнего Рима, от храма Приапа до Оленьего парка, и я всегда видел одно слово, начертанное у входа: "Наслаждение". В наши дни я тоже нашел там всего лишь одно слово, оставшееся от тех времен: "Проституция", но вовеки неизгладимое, вырезанное не на том благородном металле, который имеет цвет солнца, а на самом бледном, как бы окрашенном тусклыми лучами холодного ночного светила, - на серебре.
Когда я впервые увидел толпу... это было в одно ужасное утро, в предпоследний день карнавала, при возвращении масок из Куртиля. С вечера шел мелкий леденящий дождь; улицы превратились в лужи грязи. Экипажи с масками, сталкиваясь и задевая друг друга, двигались беспорядочной вереницей между двумя длинными шпалерами уродливых мужчин и женщин, стоявших на тротуарах. У мрачных зрителей, что стояли стеной, притаилась в покрасневших от вина глазах ненависть тигра. Выстроившись на целую милю в длину, все эти люди что-то ворчали сквозь зубы и, хотя колеса экипажей касались их груди, не отступали ни на шаг. Я стоял во весь рост на передней скамейке, верх у коляски был откинут. Время от времени какой-нибудь человек в лохмотьях выходил из шпалеры, изрыгал нам в лицо поток ругательств, а потом осыпал, нас мукой. Вскоре в нас начали бросать комьями грязи, однако мы продолжали наш путь, направляясь к Иль-д'Амур и прелестной роще Роменвиля, под сенью которой было подарено некогда столько нежных поцелуев. Один из наших друзей, сидевший на козлах, упал на мостовую и чуть не разбился насмерть. Толпа набросилась на него, чтобы уничтожить. Нам пришлось выскочить из экипажа и броситься к нему на помощь. Одному из трубачей, ехавших верхом впереди нас, швырнули в плечо булыжником - не хватило муки. Ни о чем подобном мне никогда не доводилось слышать.