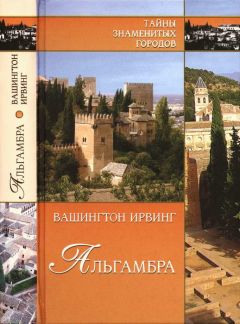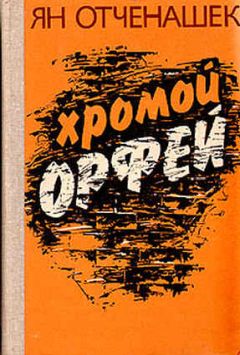Ян Отченашек - Хромой Орфей
- Геройство! Это слово меня раздражает. В нем есть излишняя напыщенность, оно часто служит отговоркой. Не быть коллаборационистом или доносчиком недостаточно. Нельзя созерцать происходящее, не ударяя пальцем о палец, и при этом твердить себе: у меня все в порядке, меня не в чем упрекнуть, я кормлю семью, учтите, пожалуйста. Мне страшно жалко, что так много людей умирают на фронте и в тюрьмах, но что могу сделать я, маленький чешский человек? Я умываю руки и жду, что меня освободят, а пока работаю на заводе... Сложилась психология: русские наступают, американцы тоже - ура! А я еду на завод и получаю добавочный паек и выпивку.
Гонза погасил недокуренную сигарету и сунул ее в коробочку.
- Ты говоришь так, словно сам не получаешь этих сигарет. Пойди верни их!
- Не в том дело! - отрезал Павел.
- Что ты знаешь? Может, те, кого ты сейчас бранишь, выступят активно, когда придет время...
- Время! А когда оно придет? Когда русские оттащат нас от этих станков?.. И тогда мы будем ходить и кричать на каждом углу, как мы геройски страдали! Кому это нужно? А сейчас? О, сейчас, конечно, всякая опрометчивость неуместна, будем благоразумны! Ужасное благоразумие в этой несокрушимой заботе о собственной шкуре!
Они замолкли, услышав звук шагов. Кто-то, насвистывая, шел мимо складов. Веркшуц? Он прошел, и у них отлегло от сердца. За оградой из колючей проволоки массивные контуры вагонов. Если присмотришься, видно, как красноватые огоньки сигарет движутся вдоль вагонов. Кто-то там кашлянул, гравий зашуршал под кованым сапогом.
- Вот видишь, - приглушенным голосом продолжал Павел, - если завтра заметит пикировщик...
Гонзу рассердила горькая ирония, с которой он повторил его слова.
- Ну и лезь туда сам! Лезь! С голыми руками. Лезь под пули, это будет так полезно!
- Ерунда, - прервал Павел, но в голосе его была неуверенность. - Обрати внимание, как это въелось в нашу психологию. Кто-то другой пусть действует. Это засело в каждом как плесень, и во мне тоже. Как зараза! Я тщетно ломаю себе голову, откуда она взялась. У нас всегда была эта мерзкая трезвость? Когда же в последний раз это твое большинство нашего народа было объято единым порывом? Порывом, который поднял бы чехов выше духовного уровня конгресса часовщиков, превратил бы их в нечто цельное, сплотил общей идеей, общей судьбой или национальным сознанием?
- Ты невозможно преувеличиваешь!
- Ну и пусть! У нас теперь слишком мало преувеличивают... Преувеличивали мы разве что в тридцать восьмом. О, тогда да! Потом все как-то угасло. Протекторат со всем покончил. А может, это затухание началось гораздо раньше? Не знаю, меня тогда не было... Правда, если бы мы тогда сопротивлялись, нас бы разгромили. Кое-кто сейчас потирает руки: мол, хорошо, что Запад нас тогда подвел, великолепно, теперь мы с чистой совестью выпутаемся из всего, и баста! А я чем дальше, тем больше убеждаюсь, что ни из чего нельзя выпутаться. Вот в чем дело! Могут быть невозместимые потери в живой силе или материальных ценностях, но еще больше потери в самих людях, внутри них! Они понесут это наследие как незримый горб. Протекторат! Кролики, которые не поднимают голов от своей капусты! Думаешь, все это не оставит следа?
- Я не люблю пророчеств.
- Я тоже, - вздохнул Павел и, после паузы, продолжал уже усталым голосом: - Думаешь, у тех, кто в прошлом году с оружием в руках поднялся в Словакии, была такая трезвость? А они поднялись! Или в Варшаве? Ты можешь, конечно, возразить, что, мол, в Словакии - горы, а здесь условия куда труднее, да и чем там все кончилось... Все это я знаю, но для меня главное в другом - в умонастроении множества людей. Пойми это! Ты думаешь, я впадаю в панику и преувеличиваю? Буду рад, если ошибаюсь. Мне вовсе не хочется ставить себя выше других.
Мороз щипал нестерпимо. Гонза дышал на кончики пальцев и топтался на месте.
- Ладно, оставим это, - сказал он устало и тут же добавил: - Будь у человека две жизни, ты, может, и вправе был бы требовать, чтобы он, не моргнув глазом, пожертвовал одну ради великих идеалов. Может быть... Но когда жизнь одна...
- Тем более!
- Ладно, я знаю, что ты хочешь сказать... Погоди, не перебивай. Я знаю твое состояние и знаю, что тебя гложет, Павел. Мне ненамного легче. Я тоже создал себе свой мирок, может, он существует только в моем воображении, этакий абсолютно мой мирок, но мне в нем жилось чудесно. Я думал, что со мной в этом мирке ничего не может случиться. А вот случилось! Почему - не знаю. Случайность это или неизбежность - не знаю. Логика, которая мне непонятна. А тебе? Видимо, человек, если он один, ничего не может сохранить. И спрятаться некуда. Человек - ничто. В том-то и беда. Но осуждать? Кого и по какому праву? Что, собственно, мы совершили? Мы только хотели совершить. Может, и это уже хорошо, но война от этого не станет короче ни на минуту. Я понял это тогда, у Мертвяка. Но еще не примирился с этим. Еще нет. Кстати, все это еще не конец.
Огонек спички на мгновение выхватил из темноты неподвижное лицо. Металлический лязг буферов подействовал как команда.
- Да. Еще не конец.
Не сказав больше ни слова, Гонза и Павел разошлись в разные стороны, чтобы не привлекать внимания веркшуцев. Холод, веявший из вселенной, разогнал их раньше, чем они могли разрешить затянувшийся спор.
Почему молчишь? - мысленно спрашивал Павел. - Я давно тебя не слышал. Упрекаешь? Нет, не упрекай, то, что было между нами, сильнее времени и расстояния. Это правда. Это смысл всего. Я выдержу. И когда ты вернешься отсутствие твое не может быть долгим, - я все тебе расскажу, ничего не скрою. Так почему же? Прежде ты возвращалась ко мне легкая, как воспоминание, как прикосновение пальцев к вeкам, и была настоящая. Что же тебя отогнало? Моя слабость? Бессилие? Или просто время? Когда ты вернешься... Но сколько до этого еще пройдет дней, сколько ночей? Он сбросил пальто, потер руки - они были холодные и влажные, - опустил штору и зажег лампу. Топить было нечем. Все было как обычно: грязное окно, за ним коридор со скрипучими половицами, лампа с бумажным абажуром, кушетка - внутри нее, среди пружин нечто завернутое в промасленную тряпку. Павел долго сидел на кушетке, упершись локтями в колени, и прислушивался. За стеной стучали ходики, слышались неторопливые старческие шаги, постукивал костыль. Секунды бежали, одиночество становилось нестерпимым.
Оставалось выйти на улицу. Не застегнув пальто, без шапки Павел выбежал в февральские сумерки, пробиваясь сквозь них, как через зараженный участок. Идти было некуда. Он пошел наугад.
Навстречу ничему - он чувствовал это. Никуда.
Там было тепло. Оно шло из-под окна. Павел прижал колени к твердым ребрам калорифера и глядел во тьму над руслом реки.
- Не зажигай света, - сказал он, не оборачиваясь, ему не хотелось ничего видеть.
Голос за спиной оторвал его от дум:
- Я не люблю темноты.
Это невозможно, он протер глаза и пришел в себя. Это был другой голос. Ему вдруг нестерпимо захотелось, чтобы она молчала!
Он лег рядом с ней на желтой постели и, хотя здесь было темно, знал, что она желтая, как большинство вещей здесь. Он ощущал тепло живого тела и особый его слабый аромат и не двигался.
- Зачем ты, собственно, пришел? - спросила Моника.
- Не знаю. Мне было холодно.
- Ах, так! Тогда согрейся! Хоть какой-нибудь прок.
- Я тебе помешал? Если ты ждешь кого-нибудь...
Она шевельнулась рядом.
- Нет, лежи. Если кто-нибудь позвонит, я просто не открою. Ключ я никому, кроме тебя, не давала, а трубку брать не буду. Хочешь есть? Или пить? Не отказывайся, война сюда еще не добралась, отец заботится обо мне, у него совесть неспокойна, есть причины. Если бы ты захотел здесь остаться, мог бы легко это сделать. Мы бы прекрасно прокормились. А что, если мы запремся здесь и выйдем, когда все кончится? Будем вот так лежать на ковре, иногда наслаждаться. При полном свете. Не может все это долго продлиться. Какое нам до всего дело!
Павел изумился.
- Это ты несерьезно, Моника!
- Может быть, - сказала она вяло. - Знаешь, почему я тебе это предложила? Да потому, что у тебя отчаянно скудное воображение, ты все воспринимаешь чересчур серьезно.
Павел не возражал. Она дышала совсем рядом с ним, жалобно прижималась к нему узкими бедрами. Такое знакомое тело! Прежде оно так легко пробуждало в нем волнение и желание. Пальцы его были погружены в ее русые волосы. Но в душе у Павла все уже молчало, все молчало. Вновь это знакомое прикосновение чего-то, жалость, пронизанная благодарностью, отвращение к себе и чувство бессилия. Моника была далеко, реальная, близкая, но чужая. Почему она не прогонит его?
Он не устоял и погладил ее по лицу.
- Не притворяйся, Павел!
Он убрал руку. Ему никогда не удавалось обмануть ее. Надо бы уйти.
За окном выл ветер и кидался на стекла.
- Я только не знала, что это будет так трудно, - сказала она после долгого молчания и отодвинулась от него. Скорей всего машинально. Она говорила спокойно - только констатировала положение вещей. - Это моя ошибка. Мне совершенно ясно, что я тебе надоела. Только не лги, я запрещаю тебе лгать. Это не значит, что ты мной пресытился, - тут дело в чем-то другом. А я тоже больше не могу так, Павел. Ты понимаешь? Это конец.