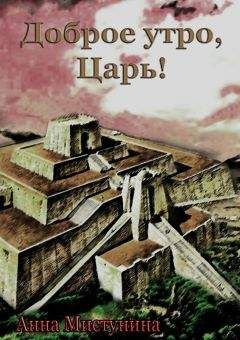Криста Вольф - На своей шкуре
И что себе думает завотделением, столь очевидно стараясь подбирать слова помягче, чтобы сообщить ей о необходимости новой операции, судя по компьютерной томограмме, другого выхода нет, но теперь он совершенно точно знает, где расположен очаг, знает и как до него добраться, во время операции он может прикрепить перед собой компьютерный снимок и ориентироваться по нему, это же просто роскошь, вот какие слова он произносит. А она говорит "да", "да", только "да". Он огорчен, но принимает деловой вид и, уже на ходу, быстро накрывает ладонью ее руку и легонько пожимает, от этого у нее могут и слезы навернуться. Словом, как выражается сестра Маргот, "вся петрушка снова здорово".
Наконец-то мне вспоминается слово, метко характеризующее нынешнюю ситуацию, думаю я. Я отравлена. И нуждаюсь в дезинтоксикации, очищении, чистилище. Эврика! Удивительно, что это открытие пришло так поздно. И оказалось таким мучительным. Мучительнее самого отравления. Заражение наверняка состоялось давно, инкубационный период, продолжавшийся не один десяток лет, закончился, теперь начинается исцеление - как тяжелая болезнь. Остается только дать ей название. Назвал - изгнал. Где я это слышала?
Ночь после укола - сплошной кошмар, в палату поминутно кто-нибудь да заглядывает. В конце концов она засыпает. Всякий рассудок гибнет! - грозно и непререкаемо объявляют ей среди ночи, есть некий персонаж, произносящий такие вот фразы. Все остальное она уже знает: Эльвира, дребезжание ведер, вялое ее рукопожатие, безмерно утомительная процедура мытья, сестра Кристина с марлевым чепчиком и укол транквилизатора. Ну, еще разок сделаем им одолжение, но больше - ни-ни, ни под каким видом! Светлые кудряшки очень мило обрамляют ее лицо. Она сама везет пациентку в хирургию, в предоперационной на сей раз ждет другая сестра, Надежда, тоже пробует говорить с нею, но испытывает затруднения, потому что ее немецкий далек от совершенства, она родом из Ленинграда, замужем за здешним инженером. Надежда поворачивается к пациентке спиной, набирает шприцы, а та говорит: Хорошее имя - Надежда, по смыслу; сестру, кажется, радует, что она это знает.
Завотделением приходит сообщить, что на сей раз подступит к очагу сбоку, то есть сделает второй разрез. Он кажется ей очень добросовестным человеком, и Кора Бахман, под своей маской, опять тихонько смеется, когда она говорит ей об этом, чуть заплетающимся, непослушным языком. Вы единственная, кто при мне иной раз смеется, говорит она Коре, та сразу делается серьезной. Трое хирургов в зеленом молча стоят с поднятыми руками у операционного стола. Почетный караул, насмешливо говорит она. Сегодня никого рассмешить не удается. Можно начинать, говорит старший врач.
Это не погружение во тьму. Беспамятство объемлет меня не постепенно. Перехода нет. Только - здесь и уже не здесь. Что во мне происходит, спрашиваю я Кору, что разыгрывается, пока меня нет? - Мы не знаем, отвечает она. Правда не знаем. Разъединяем мозг и тело, не даем мозгу регистрировать восприятия, которые заявляют ему о себе. Больше мы не знаем ничего. А остаточный риск? - спрашиваю я. Она молчит. Некоторый остаточный риск, конечно, есть, говорит старший врач. Завотделением, нехотя: Минимальный. Кажется, он совершенно точно знает, что я хочу услышать. И умирает человек точно так же? - спрашиваю я. Теперь и завотделением поневоле признаёт: Мы не знаем. - С каким же мозгом вы разъединяете связь? - спрашиваю я у Коры. Наверняка ведь с высокоразвитым мозгом млекопитающего, но не с мозгом рептилии. А стало быть, вполне возможно, что этот последний продолжает воспринимать раздражения и беспрепятственно передает их в соответствующие регионы моего тела, а значит, я - я только как пример, говорю я Коре, у нее опять ночное дежурство и, похоже, есть немного времени, - познаю себя как рептилия, хотя, разумеется, ничто из этого опыта не переходит в мою сознательную жизнь, а впрочем, кто знает? Вдруг отчасти именно потому я все чаще и кажусь себе этаким динозавром?
Кора опять улыбается - кстати, в ее улыбке нет и тени превосходства, свет она не включала, лишь квадратный ночник на плинтусе струит тусклое сияние. Оконная занавеска наполовину задернута, тени облаков плывут мимо почти круглого месяца. "Снова топишь глушь и даль"[7] - знаете? - спрашиваю я у Коры. В школе, говорит она, я стихов не учила, у нас была противная училка. Я вдруг понимаю, что не представляла себе Кору без стихов. Надо все продумать заново. Она опять все время клала свою руку на те места моего тела, которым это приносит облегчение, влажной салфеткой осторожно протерла мне лицо, подложила под пятки свернутое одеяло, ведь они наверняка болят. Да, болят, уже который день, но я думала, так и должно быть. Пусть Кора спокойно сидит и не убирает ладонь с моего плеча, я воображаю, что она вновь улыбается, и сонно говорю: Но вы ведь мне в дочери годитесь, а она в ответ: Почему "но"? - тут ее мобильный телефон начинает пищать, она тихонько роняет в трубку, что сейчас придет, а мне говорит, что ей пора. Ночь у меня будет спокойная.
Кора, ночная и лунная женщина, хранительница моего сна, должна бы знать лунное стихотворение. "Отрешаешь вновь печаль / От души вполне". "Решать", "разрешать", "отрешать" - эти слова, насыщенные магическими силами, уносят меня на ту сторону и вниз. В глубину. В шахту. "Вот так спускается он в гору средь ночи темной, / с фонарем." Мое тело - гора, шахта. Огонек на каске рудокопа освещает путь впереди. Микроскопически маленький, он светит тускло, превращая каждую соматическую клетку в огромную пещеру, каждый сосуд - в речное русло, а кровь - в поток, который толчками расходится по широко разветвленной сети протоков, огонек же спускается по ней все глубже, ощупывает органы, причудливые горные массивы, болотистые равнины, дренажные системы, существующие сами по себе и сами для себя. Какое упоение сутью, после стольких лет, перегруженных значимостью, искромсанных воззваниями и антивоззваниями. Я отдаюсь на волю потока, но я ли это еще? Огонек сознания - здесь, внутри и внизу, его терпят лишь до поры до времени, пока он не становится помехой, - направляет меня дальше, через запруды, сети, противоборства, я с легкостью двигаюсь, плыву и скольжу в сфере уже почти бестелесного, призрачные, зримые процессы, не поддающиеся описанию, но все же приводящие меня к ошеломительному выводу, что есть некая сфера, или как ее там назвать, где различия меж духовным и телесным исчезают, где одно воздействует на другое, одно вытекает из другого. Одно есть другое. То бишь существует лишь Единое. Стало быть, здесь - обитель изначального, сущностного, и имеет смысл это узнать?
Внезапно мы - выходит, я больше не одна? - оказываемся в точке конфликта, на арене битвы, в гуще схватки. Жуткая картина, мороз по коже идет. Если все так... Кто же остановит эти злодейские массы? Необозримые легионы тлетворных клеток, атакующих здоровую ткань. Но так ведь нельзя. Надо что-то делать. Я - то "я", что последовало за мною сюда, - решает вмешаться и собирает мои силы. Выясняется, что они мне послушны и со всех сторон спешат сюда. Командная власть в моих руках. Я думаю, со всей энергией, на какую только способна: уничтожьте их! Мои силы повинуются. У меня на глазах антитела храбро устремляются в бой и истребляют целые полчища мерзких тварей, даже преследуют отступающих. Отлично. Так держать. Но это утомительно. На большее мы нынче не способны. Я дергаю за веревку. Поднимаясь, сознание вновь обретает значимость и забывает глубинные сцены.
Да, говорит ночной врач, раневая боль, могу себе представить. Если хотите, сделаем еще укол, вам он полагается. Она не хочет. Не хочет, чтобы опять разъединили связь между отдельными частями ее трехкомпонентного мозга. Действие наркоза еще не прекратилось. Как вам угодно, говорит ночной врач. По ее просьбе он отодвигает занавеску. Посреди большого окна в ясном небе сияет луна. "Называл ли я моим, / Что ценней всего". Если б могла, она бы рассмеялась - с такой точностью другой человек два столетия назад выразил ее ощущение. И что же? - однажды спросила я тебя. Что мы сделаем, когда то, что ценней всего, кончится, и кончится навсегда? Ты не любишь таких вопросов. Что значит "навсегда"? Откуда мне это известно. Между прочим, нельзя ведь просто взять и прекратить, потому только, что все уже не очень-то ценно. Почему же? - подумала я, но не сказала. Почему же, собственно, нельзя? "Лютой скорбью век томим, / Вечно жду его". Теперь я могу, и с благодарностью, уцепиться за слово "скорбь" и не обязана сама произносить его.
Мы - безнадежные романтики, порой упрекал Урбан нас с Ренатой, никак не можем отделаться от идеализации авторов. Вместо того чтобы добиваться объективности. Мы вели с ним бесконечные дискуссии, помнишь, только ты один умел принять равнодушный вид и пожать плечами. Клейст? Это он-то - предтеча иррационализма? Неужели вы не видите, что Урбан понятия не имеет о литературе? Вот и всё. Но это было не "всё". По крайней мере, далеко не всё о нашем друге Урбане. А о литературе он понятие имел, и даже очень. Помнишь, что однажды сказала ему уважаемая всеми нами преподавательница? Иногда, дорогой Урбан, можно подумать, вы любите литературу. Помнишь, как он тогда смутился?