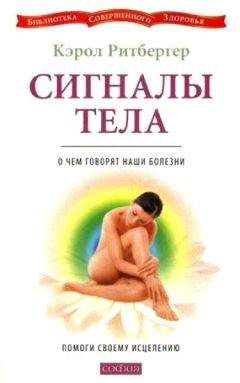Генрих Бёлль - Глазами клоуна
— Где Мария? — спросил я.
— Уехала, — сказал он, — уехала в Кельн.
— Где она? — закричал я. — Где?
— Только не кричи, — сказал он. — Узнаешь в свое время. Полагаю, что теперь ты начнешь говорить о любви, женитьбе и тому подобном... Излишний труд... ну, иди. Хотелось бы мне знать, что из тебя получится. Иди.
Я боялся пройти мимо него.
— А адрес? — спросил я.
— Вот он, — Деркум протянул мне через стол клочок бумаги. Я сунул его в карман.
— Ну, что еще? — крикнул он. — Что еще? Чего ты, собственно, ждешь?
— Мне нужны деньги, — сказал я и обрадовался, потому что он вдруг засмеялся: то был странный смех — злой и невеселый, при мне он так смеялся только раз, когда мы заговорили о моем отце.
— Деньги, — сказал он, — ты, видно, шутишь, но все равно идем, — он потянул меня за рукав пиджака в лавку, прошел за прилавок, рывком выдвинул ящик кассы и, захватив в две пригоршни мелочь, швырнул мне; по газетам и тетрадям рассыпались пфенниги, пятипфенниговые и десятипфенниговые монетки; секунду я колебался, а потом начал медленно собирать их; меня подмывало разом сгрести всю эту мелочь, но я преодолел искушение и стал складывать пфенниг к пфеннигу, а когда набиралась марка, опускал их в карман. Деркум не сводил с меня глаз, кивнув, он вынул бумажник и протянул мне пятимарковую бумажку. Оба мы покраснели.
— Извини меня, — сказал он тихо, — извини, боже мой... извини.
Он считал, что я оскорблен, но я его очень хорошо понимал.
— Дайте мне еще пачку сигарет, — сказал я. Он, не глядя, протянул руку назад к полкам и дал мне две пачки. По лицу у него текли слезы. Я перегнулся через прилавок и поцеловал его в щеку. Он — единственный мужчина, которого я за всю жизнь поцеловал.
8
Мысль о том, что Цюпфнер может беспрепятственно смотреть на Марию, когда она одевается, завинчивает крышку на тюбике с зубной пастой, ввергала меня в глубокое уныние. Нога опять разболелась, и я снова засомневался, смогу ли я удержаться на уровне «тридцать-пятьдесят-марок-за-выход». И еще меня мучила мысль о том, что Цюпфнер с совершенным равнодушием отнесется к возможности смотреть на Марию, когда она завинчивает крышку на тюбике с зубной пастой; согласно моему непросвещенному мнению, у католиков нет ни малейшего вкуса к мелочам. Телефон Цюпфнера уже был выписан у меня на листке, но пока я еще не собрался с духом, чтобы позвонить ему. Разве можно знать, на что решится человек под влиянием своих убеждений? А вдруг Мария действительно вышла замуж за Цюпфнера, и мне придется услышать, как ее голос произнесет в трубку: «Квартира Цюпфнеров»... Этого я не перенес бы. Чтобы позвонить Лео, мне пришлось перелистать телефонную книгу на букву «Д» — духовные семинарии; ничего подходящего я не нашел, хотя точно знал, что в городе существуют два таких заведения — Леонинум и Альбертинум. Наконец я решился поднять трубку и набрать номер справочного бюро; против всякого ожидания там не было «занято» и мне ответила девушка на чистом рейнском диалекте. Иногда я так остро тоскую по рейнскому говору, что звоню из какой-нибудь гостиницы на боннскую телефонную станцию, чтоб услышать эту чуждую всякой воинственности речь, без раскатистого «р», как раз без того звука, на котором в основном держится казарменная дисциплина.
Мне, как водится, сказали: «Подождите, пожалуйста», но всего раз пять, а потом к телефону подошла другая девушка, и я спросил у нее насчет «заведений, где готовят католических священников»; я сказал, что искал их на «Д», под рубрикой «духовные семинарии», но ничего путного не обнаружил; девушка засмеялась и ответила, что эти «заведения» — она очень мило подчеркнула кавычки — называются, мол, конвиктами, и дала мне телефон обоих. Голос девушки из справочной несколько утешил меня. Он звучал естественно, без всякого жеманства и кокетства, и очень на рейнский лад. Потом мне, как ни странно, удалось быстро соединиться с телеграфом и послать телеграмму Карлу Эмондсу.
Я никогда не мог понять, почему каждый человек, мнящий себя интеллигентом, считает своим долгом расписаться в ненависти к Бонну. У Бонна есть своя прелесть, прелесть сонного болота; ведь существуют женщины, чья сонная грация кажется привлекательной. Конечно, Бонну противопоказаны всякие преувеличения, а сейчас этот город преувеличен во всех смыслах. Город, который не выносит утрировки, невозможно изображать на сцене, и уже одно это — редкое качество. Даже дети знают, что боннский климат как бы специально создан для старичков рантье: здесь будто бы существует какая-то связь между давлением воздуха и кровяным давлением. Но что уже совершенно не подходит к Бонну, так это раздражительность и оборонительная поза. У нас дома я имел предостаточную возможность встречаться с крупными чиновниками, парламентариями и генералами (моя мамаша обожает приемы), и все они находились в состоянии раздражения и постоянно в чем-то слезливо оправдывались. При этом они с вымученной иронией прохаживались насчет Бонна. Не понимаю я этого вида кокетства. Если женщина, привлекательная своей сонной грацией, вдруг вскочит, как безумная, и пойдет отплясывать канкан, можно предположить только одно эту женщину опоили каким-то зельем, но нельзя целый город опоить наркотиками. Добрая тетушка может научить тебя вязать кофты, вышивать салфетки или объяснить, какие рюмки годятся для хереса, но странно было бы требовать от старушки, чтобы она прочла логичный, брызжущий остроумием двухчасовой доклад о гомосексуализме или же вдруг начала шпарить на жаргоне шлюх, который в Бонне, к всеобщему сожалению, мало распространен.
Ложные надежды, ложный стыд, ложные спекуляции на противоестественном. Я не удивлюсь, если легаты папы римского начнут жаловаться на нехватку шлюх. Во время одного из маминых приемов я познакомился с партийным бонзой, который заседал в каком-то комитете по борьбе с проституцией и шепотом сокрушался, что шлюхи в Бонне так дефицитны.
В прежние годы Бонн был на самом деле не так уж плох: узкие улочки, на каждом шагу книжные магазинчики, студенческие корпорации, маленькие кондитерские, в задней комнате которых можно было выпить чашку кофе.
Перед тем как позвонить Лео, я проковылял на балкон и бросил взгляд на свой родной город. Бонн красив, этого от него не отнимешь. Я увидел кафедральный собор, крыши старого дворца курфюрста, памятник Бетховену, маленький рынок и Дворцовый парк. В судьбу Бонна никто не верит — такова его судьба. Стоя на балконе, я полной грудью вдыхал боннский воздух, который против ожидания подействовал на меня живительно; если человеку надо переменить климат — Бонн творит чудеса, хоть и ненадолго.
Я ушел с балкона в комнату и уже без всяких колебаний набрал номер того заведения, в котором обучается Лео. Мне было не по себе. С тех пор как Лео стал католиком, я его ни разу не видел. О своем обращении он сообщил мне, как обычно, с детской старательностью. Вот что он писал:
«Дорогой брат,
сим письмом извещаю, что по зрелому размышлению я решил перейти в лоно католической церкви, а затем принять сан священнослужителя. Надеюсь, мы скоро получим возможность лично переговорить об этой коренной перемене в моей жизни.
Любящий тебя брат, Лео».
Старомодная манера, с какой Лео судорожно пытается избежать местоимения «я» в начале письма, заменяя слова «я сообщаю тебе» вычурным оборотом «сим письмом», — в этом весь Лео. Где тот блеск, с каким он играет на рояле? Способность Лео улаживать свои дела, соблюдая все формальности, усугубляет мою меланхолию. Если он будет продолжать в том же духе, то обязательно станет когда-нибудь почтенным седовласым прелатом. В письмах Лео и отец похожи друг на друга, они оба не владеют пером; о чем бы они ни писали, кажется, что речь идет о буром угле.
Пока в заведении Лео соблаговолили подойти к телефону, прошла целая вечность; я уже начал было поносить «поповскую расхлябанность» соответствующими моему настроению бранными словесами, пробормотал даже: «Сукины дети!», как вдруг кто-то снял трубку и произнес на редкость сиплым голосом:
— Слушаю.
Какое разочарование. А я-то думал услышать медоточивый голос монашенки и почувствовать запах жидкого кофе и черствой сдобы; вместо этого со мной заговорил какой-то хрипун, от которого так сильно несло свининой и капустой, что я закашлялся.
— Извините, — с трудом произнес я, — не могли бы вы позвать к телефону студента богословия Лео Шнира?
— Кто это говорит?
— Шнир, — ответил я. Наверное, это было выше его разумения. Он долго молчал, я опять закашлялся, подавил кашель и сказал:
— Говорю по буквам: школа, небеса, Ида, Рихард.
— Что это означает? — спросил он после долгой паузы, и в его голосе мне послышалось то же отчаяние, какое испытывал я. Может быть, они приставили к телефону добродушного старичка профессора с трубкой в зубах? Я быстро наскреб в памяти несколько латинских слов и смиренно сказал: