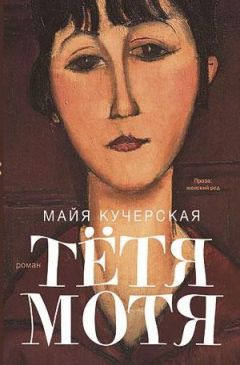Андрей Арев - Мотя
Ехать предстояло долго. Мотя смотрела то на стоящие вдоль дороги сосны, заученно демонстрирующие геральдические сибирские цвета, то на проплывающие мимо заснеженные поля, на которых кое–где виднелись стога сена — казалось, что это такие небольшие пирамиды для незаконнорожденных детей фараона, сосланных подальше от дворцовых интриг, и замерзших в своей северной ссылке. «В моем краю поэты пишут стихи в варежках, — вспомнила Мотя стихи пани Виславы, — Я не говорю, что они никогда не снимают рукавиц — снимают, особенно когда теплая луна — просто их чтение смахивает на кашель, поскольку только кашель звучит громче штормового ветра».
Рядом дремала Нюра, убаюканная звуками суфийской музыки, все еще доносившейся из кабины водителя. Кока уткнулся в свой вечный «Остров сокровищ» и, кажется, уже давно плавал глазами в одной и той же странице. Мотя поерзала, устраиваясь поудобнее, осторожно, чтобы никого не задеть, чуть опустила спинку кресла назад, и тоже прикрыла глаза. В детстве, перед сном, слыша доносящееся из телевизора «тихо–тихо ходит дрёма возле нас», Мотя все никак не могла понять, кто же это ходит — вместо «дрёма» она слышала «дрёва». Спросить было не у кого. Прочитав в первом классе «Трех мушкетеров», Мотя решила, что это никакая не «дрёва», а д’Рёва, госпожа из города Рёва, очевидно. Возможно, даже сама казненная миледи, вернее, ее призрак, тихо–тихо появляющийся ночами у детских кроваток и льющий слезы над своей судьбой; конечно, по правилам должно быть не д’Рёва, а де Рёва, но это было неважно, зато красиво и печально. Печально потому, что миледи смотрела на безмятежно спящего в кровати ребенка, и, наверно, жалела о том времени, когда в ее жизни еще не было ни клейма, ни графа де Ла Фера, ни вообще мушкетеров и прочих неприятных вещей, а вовсе не потому, что она мертва — к этому ей было не привыкать, граф, как мы помним, ее уже вешал. Да и на малой родине Моти к чужой ли, своей ли смерти относились как к событию заурядному и не более досадному, чем, например, к хлопотам при переезде — достаточно было просто выпить лишнего в Новый год или, собирая грибы, положить в корзину паутинник вместо рядовки — колесо сансары легонько щелкало, пробегало короткое детство, и человек снова обнаруживал себя среди знакомых унылых полей. Не потому ли, подумала Мотя, стог сена на местном диалекте назывался странным словом «зарод»?
Некоторые души, очевидно, привязаны к одному месту и за что–то принуждены воплощаться только в определенном географическом пространстве — иначе откуда такое спокойствие при виде всего этого? И не просто спокойствие, а даже любовь?
Любовь. Морковь.
3. Магнитка
16
Магнитогорск встретил их метелью — несмотря на уже довольно позднее утро солнца почти не было видно, только маленький тусклый шар можно было разглядеть в небе. Зато комбинат выдыхал красивый оранжевый дым, парили градирни, похожие на грустных курящих слонов.
— Ну вот, Магнитка, — сказала Мотя, потянувшись, — приехали.
— Умыться и почистить зубы, — проснулась Нюра, — и чаю.
Автобус подрулил к перрону, пассажиры, разминая затекшие члены, начали одеваться, собирать вещи. Azad уже не пел, водитель с помятым лицом приоткрыл окно и закурил. На Привокзальной площади Мотя показала друзьям памятник, изображавший черного мускулистого парня: — Вот, раньше в Бельгии стоял, потом на ВДНХ валялся, никому не нужный, назывался — Рабочий. Теперь тут стоит, называется — Металлург. Медный, между прочим. Зачем его в черный покрасили — непонятно…
— Это что, — сказал Кока, — мухинскую Колхозницу вообще дефлорировали. Бугаев—Африка.
— Западает на высоких возрастных женщин, м? — спросила Нюра. — Это комплекс… Хотя, в Молдавии, я слышала, кто–то даже венчался с памятником. Что–то в этом есть, определенно. Ладно, пошли умываться, не пить же чай грязным ртом.
Нюра выдала каждому по бумажному полотенцу, китайской одноразовой зубной щетке и пакетику с зубным порошком «Артек». Друзья привели себя в порядок и отправились в ближайшее кафе.
— Я вот что подумала, — сказала Мотя, облизывая с губ молочные «усы» — вместо чая она взяла бутылку башкирского катыка, — река же подо льдом. Как мы увидим, где трубы комбината не отражаются в воде?
— Не беспокойся, — ответил Кока, — я кучу фотографий комбината перерыл, трубы уже почти нигде не отражаются, можно в любую проходную заходить, чтобы через забор не лезть, там колючка. Только пропуск нужен.
— Тоже не проблема, нас сердце Завенягина проведет, я знаю, — Нюра достала из–за пазухи коробочку и приоткрыла ее, любуясь зеленым сиянием.
— Тогда предлагаю в гостиницу, как раз на левом берегу есть, «Азия» называется. Нам же только ночью олений парк искать, а он тоже на левом. Отоспимся и пообедаем нормально.
Они сели в нужный трамвай — здесь они ходили в сцепке из трех вагончиков — и оправились на левый берег Урала. Гостиница оказалась старым помпезным зданием желтого цвета: «золотая дремотная» — прокомментировала Мотя.
— Ну, почти, — согласился Кока, — 1929 год.
Кока протянул дежурной за стойкой какие–то очередные бумаги о слете юных металлургов, та было засомневалась, но Мотя и Нюра в школьной форме с белыми передниками и красными галстуками так лучезарно улыбались, что ключи от номеров они таки получили. В гостинице было пусто, хотя и всюду раздавались какие–то звуки: то радиопомехи из транзистора, то щелчок звукоснимателя, то женский смех, то густой баритон, напевавший «Трансвааль, Трансвааль, страна моя…» — но постояльцев видно не было.
Кока в своем номере завалился на кровать с неизменным Стивенсоном, девочки же, напевая «Отоспимся в гробах», отправились на правый берег, в Европу — разглядывать сталинские архитектурные излишества и фотографироваться у памятника Первой палатке. Они погуляли почти до вечера, перекусили в пельменной, и отправились в гостиницу, выспаться перед ночными приключениями. Кока к тому времени уже проснулся, составил план местности, раздобыл где–то кирку, и теперь расхаживал по номеру с позаимствованным у соседа приемником в руках, из которого доносилось: «в шорохе мышином, в скрипе половиц…». Нюра вручила Коке бумажный пакет с пирожными, и они договорились встретиться ночью в вестибюле, в 23.00.
В назначенное время, выспавшиеся, они вышли из гостиницы. Метель ночью стихла, потеплело, и повалил снег. Выспавшиеся девочки, дурачась, ловили языком большие снежные хлопья и смеялись, Кока же был отчего–то мрачен, кирка на его плече угрюмо поблескивала.
— Ну же, Смирнов, проснись! — сказала веселая Нюра, — вот я тебе спою!
Она жарко зашептала ему в самое ухо:
— Как медузы после шторма
В предрассветном хлороформе
Мы движемся на ощупь,
Спать хочется до тошноты…
Кока помотал головой, ему было щекотно от шепота Нюры, но тут уже Мотя зашептала ему в другое ухо:
— Жизнь печальна, а сон так сладок,
Так стоит ли играть с мозгами набок?
Но я прошу тебя: верь мне,
Верь мне, верь мне…
— А скажите, девочки, — сказал Кока, чтобы отвлечь их, — вы читали стихотворение Андропова про смерть?
— «Да, все мы смертны, хоть не по нутру Мне эта истина, страшней которой нету», — процитировала Нюра, — это?
— Ага, — подтвердил Кока, — мне там один момент непонятен. Вот он пишет: «Мы бренны в этом мире под луной: Жизнь — только миг (и точка с запятой); Жизнь — только миг; небытие — навеки». Как же небытие навеки, если «точка с запятой»? То есть, дальше продолжение, раз точка с запятой? Скажи мне, Одинцова, как бывший командир звездочки?
— Ну что ж тут непонятного, Кока? Там дальше: «Но сущее, рожденное во мгле, Неистребимо на пути к рассвету. Иные поколенья на Земле Несут все дальше жизни эстафету». Это же буддизм чистой воды, как и положено. Что Ленин о душе говорил? Что когда горящая свеча соприкасается с негорящей, то пламя не передается, но является причиной, из–за которой начинает гореть вторая свеча. То есть, ты умер насовсем, но точка с запятой в виде второй свечи — есть.
— Не, ребят, Андропов чекистом был, а значит — мистиком. Вы послушайте только: «но сущее, рожденное во мгле»! Кто у нас во мгле рождается? То–то! — Мотя рассмеялась.
— Тоже верно, — поддержала подругу Нюра, — «и не–рыбы вместо рыб будут плавать там». Здорово.
— И рожденные во мгле сущности, согласно буддизму, являются не чертями и прочим инферналитетом, а защитниками учения, единственно верного, и потому непобедимого, — подвел черту Кока. — Все равно Брежнев лучше писал: «Это было в Лозанне, где цветут гимотропы, где сказочно дивные снятся где сны. В центре культурно кичливой Европы в центре, красивой, как сказка страны».
— Ты сравнил! — сказала Нюра, — Брежнев не чекист, во–первых. И, во–вторых, постарше Андропова, он же с 1906 года, по малолетству еще излет Серебряного века застал. А Андропов — с четырнадцатого года.