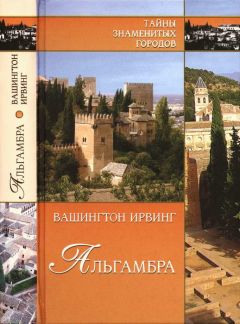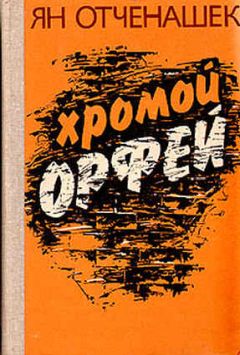Ян Отченашек - Хромой Орфей
Душан не возмутился, он понял ее, сунул руку в карман, вынул десять марок и подал женщине. Собака на полу внимательно следила за ним покорными глазами. Женщина слегка заколебалась - Душан понял, что она не ожидала такой щедрости, - и взяла деньги молча, с некоторой подозрительностью, которую ей привила ночная улица. Она сняла поношенное пальтишко и села с ним рядом. Уголком глаз он заметил под измятой юбкой толстую, уже бесформенную ногу в дешевом чулке. Это было настолько отталкивающее зрелище, что Душан стиснул зубы и, с трудом преодолевая брезгливость, заставил себя снова взглянуть ей в лицо. Блеклые глаза смотрели на него с нескрываемым удивлением и ожиданием. Она вдруг показалась ему не такой отталкивающей, он увидел в ней что-то материнское. Под грубыми чертами лица чувствовалась простота и добродушие женщины из низов, примирившейся со своей участью. И когда она снова погладила его по голове видимо, ей нравились его мягкие волосы, - у него уже не осталось прежней брезгливости.
- Ты не хочешь?
Он молчал, она поняла это по-своему.
- Что, не понравилась? У тебя своей-то девушки нет?
Он на секунду заколебался, потом решительно покачал головой.
- Чудной ты какой-то! Боишься, что ли? Такой красавчик, да с тобой пойдет любая, бабы должны к тебе липнуть. На кого-то ты похож! Нет у тебя брата в Кралупах? Нету? Совсем чужие люди иногда бывают страшно похожи...
Душан заметил седину у нее на висках. С нараставшей тревогой, опершись локтями в колени и подперев руками голову, он слушал ее болтовню. Встать и уйти, встать и уйти! Что интересного может сказать ему это обиженное жизнью существо из самых низов человечества? Что ему здесь нужно? Зачем он пришел сюда? У Душана голова шла кругом, безмерное отвращение охватило его... Что сказать ей? Ничего, ничего! Он не имеет на это права. Он должен молчать!
- Немой ты, что ли? Вроде лунатика! С тобой страшно. Зачем ты пришел ко мне?
- Я искал тебя, - наконец откликнулся он. - Мне было холодно.
- А ну тебя! - усмехнулась она. - Нечего насмехаться! У меня как раз затопить нечем. Можем только поговорить. Человеку скучно, когда не с кем поговорить. Знаешь, что я делаю, когда очень муторно на душе? Читаю. Понятное дело, не какую-нибудь там умную книгу - на это моей головы не хватает. Раньше я, бывало, вырезала романы из журналов - ты бы от них нос отворотил. Небось образованный, верно? Какие у тебя тонкие руки... как у акушера. Чем ты занимаешься?
Душана ужаснула ее назойливая общительность, и он не сразу осмыслил ее вопрос.
- На заводе... насаживаю какие-то колпачки на какие-то шланги. Восемьдесят штук в день.
- Я тоже мобилизована - стираю белье в эсэсовском лазарете. Мало радости, скажу тебе, возиться в этой грязи. Ломит спину. Этим вот только прирабатываю, не хочу терять нескольких знакомых, которые ко мне еще ходят.
Она взяла его озябшую руку и приложила к своей толстой расплывшейся ляжке. Душан не в силах был отдернуть руку.
- Знаешь, мне уже давно никто не давал столько денег. Я непривычна брать ни за что... Поплюю-ка я на них на счастье. Так ты вправду ничего за них не хочешь? Я не набиваюсь, нет так нет. Но если ты брезгуешь, так это зря...
Нестерпимо! Его отчаянный взгляд заставил ее замолчать.
- Ты что?
- Я не брезгую, - скривившись, выдавил он. - Я совсем не брезгую... Ты красивая...
Она отодвинулась и коснулась ладонью его лба.
- У тебя жар. Шел бы ты, парень, домой, что-то с тобой неладно...
- Нет, ты ошибаешься... Домой я не могу! Мне нигде не было так хорошо, как у тебя, прошу тебя, дай мне побыть здесь еще немного.
Душан прикрыл глаза, в его ладонь вливалось живое тепло ее тела, это было страшно и захватывающе... Он передвинул руку и ощутил под тканью мягкий живот, потом его лицо прижалось к большой, дряблой груди, пахнувшей пудрой и мылом; все это было жутко и бессмысленно, и вдруг его безотчетно потянуло с рыданием укрыться в этом чужом, изношенном теле, раствориться в нем, избавиться от мук сознания, скрыться от гнусности бытия...
И он нашел все это.
Лупоглазая собачонка, плита, облупленный умывальник и швейная машина... Множество теней во всех углах. Душан пошевелился. Где же он? Сознание зыбится, как водная гладь под ветром, кто-то рядом говорит, покашливает, спрашивает, как его зовут... Но слова уже не долетают до Душана, уже, слава богу, не относятся к нему, он может не слушать их, круг замкнулся, осталось лишь сознание чего-то неотвратимого, сознание своего сегодня, уверенность, которая уже не так страшна и трагична. Душан чувствует, что не вынес бы больше прикосновения руки, что нужно встать и уйти. Он уже вне всего этого - такого удивительного и прекрасного, он вне этой гнетущей полутьмы и ее запахов, вне всяких человеческих связей. Ах, наконец-то!
- Очень ты чудной, - слышит он из милосердной дали. - Ты же не хотел, не говори. О чем с тобой разговаривать?
С мучительным нетерпением он подождал, пока она накинула поношенное пальто и влезла в стоптанные туфли. У него не было ни злости на нее, ни отвращения, ни сочувствия - ничего. Уходя, он заметил, что приученная собачонка опять вспрыгнула на диван и свернулась в клубок. Но это не показалось Душану смешным.
В зыбкой темноте, на фоне ворот, резко проступал контур акации. Душан не заметил, что женщина протянула ему руку. Но по какому-то смутному побуждению пошарил в карманах, нашел несколько кредиток и монет, молча отдал их и убежал от ее благодарности.
И вот он снова один. Подняв воротник, он торопливо идет домой. В душе совсем пусто, лот коснулся дна. Ноги идут сами, несут его, и остался только покой - восхитительный, холодный, равнодушный покой, в котором тонет все, что еще недавно мучило, все отвратное и смятенное. Покой подобен морозному сиянию, прозрению, все кажется легким и достижимым. Сегодня и навсегда - наверняка раз и навсегда! Покой! Наконец-то он дождался его! Собственное "я" словно сжималось и таяло, превращаясь в ничто, и это было изумительное ощущение. Исчезали жалость и страх, все было уже совсем не болезненно. Так, так! Ему уже давно было знакомо это сладостное безразличие ко всему сущему, эта нирвана, когда нет терзающих мыслей, которые словно копошатся в тумане, нет отношения к людям и потому нет сомнений. Душан культивировал в себе это состояние, учился вызывать его, как учатся мальчишки задерживать дыхание, потому что, погрузившись в него, оставался наедине с собой, замкнутый в кругу своих фантомов и, несмотря на это или именно поэтому, замечательно раскрепощенный от материального мира. Это было такое облегчение! Наконец-то он снова впал в такое состояние и, нематериально легкий, плыл в нем по мокрой улице, храня в остатках сознания лишь один властный императив: сохранить в себе это чувство, всеми силами удержать его и совершить единственный остающийся ему поступок. Это было как водолазный колокол, условие свершения, трут, который дает искры. Душан сунул руки в карманы. На углу он на ощупь нашел знакомый почтовый ящик, не колеблясь, бросил в него письмо и услышал, как конверт стукнулся о железное дно.
Подойдя к дому, он оглянулся.
Никого. Пусто.
На цыпочках, затаив дыхание он прокрался в переднюю - пахнуло знакомым запахом нафталина. Душану казалось, он слышит ровное дыхание спящих, мелодично пробили дедовские стоячие часы.
Сквозь застекленную дверь его комнаты виднелся свет - убегая из дому, он забыл выключить лампу. Вот его прибежище, его раковина - этот конус света, обособленный во всепоглощающей тьме; свет тут удивительно консервирован.
Он аккуратно закрыл за собой дверь и повернул в замке ключ. Снял ботинки, и мягкий ковер заглушил его шаги. Движения его были медленны и осторожны, как у человека, который несет поднос с хрупким стеклом.
Огляделся. Ампула здесь! Она ждала, но уже не пугала. Она приветствовала его.
Он заглянул на дно пустой чашки, понюхал ее и осторожно поставил обратно на блюдце. Допивать было уже нечего. Душан прошелся от книжного шкафа до занавешенного окна, потрогал кресла, абажур, полированную крышку радио, провел ногтем по кожаным корешкам книг и продолжал ходить по комнате, словно ища чего-то.
Он остановился у письменного стола. Маленьким ключиком отпер нижний ящик и вытащил мягкий сверток, просмотрел его, поднес поближе к свету и рывком развернул флажки. Шарик нафталина выпал и покатился к окну. Флажки! Душан разложил их на креслах - цвета, полосы, звезды. Последним флажком он покрыл низкий табурет и, удовлетворенный, посмотрел на это украшение.
Почему воют сирены? Он замер, прислушался... И снова... Нет, это в голове... И снова!
Он лег навзничь, сжимая в руке хрупкую ампулу, согретую его ладонью, и, сосредоточив все свое терпение, стал ждать. Пятно на потолке - прямо над головой. Душан не сводил с него глаз. Да, оно похоже на голову пса, теперь это уже ясно... "Душан!" - услышал он чей-то крик, но не узнал чей. Скоро пятно начнет постепенно расплываться, бледнеть, затягиваться седоватым дымом, и тишину нарушит плеск воды... "Душан!" Нет, ничего не слышать! Еще нет, это еще не началось, еще нет, спокойно, не двигаться! Высокий, мучительно дисгармонический звук близится, нарастает... Пора!