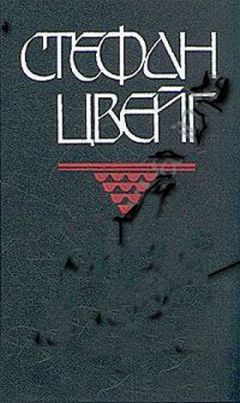Джеймс Джойс - Дублинцы (сборник)
Он молился:
– Некогда Он судил прийти на землю в небесной славе, но мы согрешили, и тогда поистине не мог Он уже явиться нам, иначе как скрыв завесой Свое величие и умалив сияние, ибо Он Бог. Итак, пришел Он не в силе Своей, но в слабости, и на место Свое послал тебя, создание тварное, с тою красотою и славой, что для нас восприемлемы. И ныне самый лик твой и очертанья, о возлюбленная мати, говорят нам о Вечном, и не земной красоте, опасной для взора, они подобны, но подобны звезде утренней, ставшей символом твоим, звезде ясной и мелодичной, несущей весть о небе и вселяющей мир. О дня провозвестнице и паломника светоче! Не оставь нас и впредь наставлением твоим. Во мраке ночи, в глухой пустыне укажи путь нам ко Иисусу Христу, Господу нашему, укажи нам путь в дом наш.
Глаза его застилали слезы, и, подняв смиренный взгляд к небу, он заплакал о своей утраченной чистоте.
Когда совсем стемнело, он вышел из дому. С ощущением сырой мглы, со стуком захлопнувшейся двери к нему тут же снова вернулись острые угрызения, приглушенные было слезами и молитвой. Исповедь! Исповедь! Приглушать угрызения молитвою и слезами – этого было мало. Он должен пасть на колени перед служителем Святого Духа и исповедать ему правдиво и покаянно все свои тайные грехи. Прежде чем он снова услышит, как дверь их дома, открываясь, чтобы его впустить, глухо заденет за порог, прежде чем снова увидит накрытый к ужину стол на кухне, он падет на колени и исповедается. Это же так просто.
Угрызения совести утихли, и он быстро зашагал вперед по темным улицам. На этом тротуаре множество плит, а в городе множество тротуаров, а в мире множество городов. Но у вечности вообще нет конца. Сейчас он пребывает в смертном грехе. Даже если однажды все равно смертный грех. Может случиться в одно мгновение. Но как же, так моментально? Едва увидел или подумал, что увидел. Глаза что-то видят, заранее они этого не хотели видеть. И потом раз – и готово. Но как же, эта часть тела, она что, может понимать, или как? Змей, хитрейший из зверей полевых. Должно быть, она понимает один миг, когда возникает вожделение, а потом уже она греховно длит это свое вожделение, один миг за другим. Чувствует, понимает и вожделеет. Что ж это за жуткий предмет? Кто ее такой создал, эту скотскую часть тела, что она может скотски понимать, скотски вожделеть? На самом ли деле это он – или это нечто нечеловеческое, движимое какой-то душой, более низменной, чем его душа? Его душа содрогнулась, когда он представил себе вялую змееподобную жизнь, питающуюся нежной сердцевиной его жизни и насыщаемую слизью похоти. О, зачем это так? Зачем?
Он весь съежился в мрачной тени этой мысли, полный приниженности и страха пред Богом. Кто создал все вещи и человека. Безумие. Кому только могло такое прийти на ум? И съежившись во тьме и убожестве, он бессловесно взывал к своему ангелу-хранителю, дабы тот мечом своим изгнал демона, нашептывающего его сознанию.
Нашептывание прекратилось, и он четко осознал, что его собственная душа грешила по своей воле, и словом, и делом, и помышлением, имея орудием греха собственное его тело. Исповедь! Он должен исповедаться в каждом своем грехе. Как же он сможет высказать словами священнику то, что содеял? Он должен. Должен. Или как же он сможет это объяснить, не умерев от стыда? А как же он смог это все проделать, не умерев от стыда? Безумец, грязный безумец! Исповедь! О, ведь тогда он вправду станет снова свободен и безгрешен! Может быть, священник поймет. О Боже милостивый!
Он все шагал и шагал по улицам с тусклым освещением, страшась остановиться хоть на секунду, чтобы никак не показалось, будто он хочет уклониться от того, что его ждет, и страшась прибыть к цели, к тому, чего неотступно жаждал. Как прекрасна должна быть душа в состоянии благодати, когда Господь на нее взирает с любовью!
Растрепанные бабы с корзинами сидели вдоль обочины тротуара, сырые пряди волос налипли у них на лоб. Вид их, сгорбившихся и сидящих в грязи, не был прекрасен. Но Богу видимы были души их, и, если были они в состоянии благодати, то сияли светом и Бог, взирая на них, любил их.
Опустошающее чувство унижения дохнуло хладом на его душу, заставив подумать, до чего же он пал, ощутить, что души их, тех, дороже Богу, нежели его душа. Ветер дохнул на него и умчался к мириадам и мириадам других душ, которым милость Божия сияла то сильней, то слабей, подобно звездам, что светят то ярче, то бледнее, замирают и гаснут. И души мерцающие уплывали прочь, замирая и угасая, сливаясь в одном потоке. Одна погибла – крошечная душа – его душа. Она вспыхнула и погасла, забытая, погибшая. Конец: мрак, хлад, пустота, ничто.
Сознание места медленно возвращалось к нему, словно волна отлива по широкой полосе неосвещенного, неощущенного, непрожитого времени. Убогая сцена составилась вокруг: простонародная речь, газовые рожки лавок, запахи рыбы, спиртного, мокрых опилок, снующие мужчины и женщины. Старуха собралась перейти улицу, в руке керосиновый бидон. Нагнувшись к ней, он спросил, есть ли где-нибудь недалеко церковь.
– Церковь, сэр? Да, на Черч-стрит.
– Черч-стрит?
Она взяла бидон в другую руку и показала, куда ему – и когда она протянула из-под бахромы платка свою высохшую правую руку, от которой пахло, он нагнулся к ней еще ближе, утешаемый и печалимый звуками ее голоса.
– Благодарю вас.
– Сделайте милость, сэр.
Свечи на главном алтаре были уже потушены, но благовоние ладана плыло еще в темном храме. Бородатые, с набожными лицами прислужники уносили балдахин через боковую дверь, и ризничий направлял их сдержанными жестами и словами. Кое-кто из верных еще задержались, одни молились у боковых алтарей, другие стояли на коленах подле исповедален. Он робко приблизился и стал на колени в последнем ряду скамей, признательный за мирную тишину и благоухающий сумрак храма. Планка, на которую опирались его колени, была узкой, вытертой, а те, кто стоял на коленах подле него, были смиренные последователи Иисуса. Иисус тоже родился в бедности и работал у плотника, пилил и строгал, и первые Его речи о Царствии Божием были к бедным рыбакам, и всех Он учил смирению и кротости сердца.
Он опустил голову на руки, вменяя своему сердцу быть смиренным и кротким, так чтобы он мог стать таким же, как те, что стояли на коленах рядом с ним, и молитва его была бы столь же угодна Господу, как их молитва. Он молился с ними рядом, но молитва шла тяжело. Его душа была в мерзости греха, и он не смел молить о прощеньи с простодушием и доверием, как те, кого Иисус неисповедимыми путями Божьими призвал первыми к Себе, – как плотники, рыбаки, простые бедные люди, которые занимались скромным ремеслом: обрабатывали дерево, терпеливо чинили сети.
Высокая фигура приблизилась со стороны бокового нефа, и ждущие исповеди задвигались; подняв быстро взгляд в последний момент, он успел заметить седую длинную бороду и коричневую рясу капуцина. Священник скрылся в исповедальне. Двое поднялись и вошли также, с двух сторон. Деревянная ставенка задвинулась, и тишину нарушил слабый шум шепота.
Кровь в венах у него тоже зашумела, шепча, зашумела и зашепталась, словно греховный город, поднятый ото сна и услышавший свой смертный приговор. Язычки пламени летали, падали, на людские жилища мягко падали хлопья пепла. Люди пробуждались от сна, люди задвигались в беспокойстве, почуяв жар.
Ставенка отодвинулась. Покаявшийся вышел сбоку. Открылась дальняя ставенка. На то место, где стоял на коленях первый покаявшийся, прошла спокойно, бесшумно женщина. Снова раздался слабый шепот.
Еще можно пока уйти. Можно подняться, сделать шаг, потом выйти тихо и потом побежать, побежать стремглав, помчаться по темным улицам. Еще можно скрыться от этого позора. Пусть бы любое страшное преступление, только не этот грех! Пусть бы даже убийство! Огненные язычки падали на него отовсюду, обжигая, – постыдные мысли, постыдные слова, постыдные поступки. Стыд и позор покрыли его с головы до ног, как тонкая пелена раскаленного тлеющего пепла. Выговорить это словами! Его душа не сможет, она задохнется, прекратит быть.
Ставенка отодвинулась. Покаявшийся вышел с другой стороны исповедальни. Открылась ближняя ставенка. Следующий вошел туда, откуда возник ушедший. Мягкие шепчущие звуки плыли влажными облачками из исповедальни. Это женщина – мягкие, шепчущие облачка, мягкий и влажный шепот – испаряется, отшептав.
Он ударял себя покаянно кулаком в грудь, тайком, за укрытием деревянного подлокотника. Он примирится, воссоединится с людьми и с Богом. Возлюбит ближнего своего. Возлюбит Бога, Который его сотворил и любил его. Падет на колени, и будет молиться вместе с другими, и будет счастлив. И воззрит Господь на него и на них и возлюбит всех их.
Нетрудно быть добрым. Бремя Божие сладостно и легко[101]. Было бы лучше никогда не грешить, всегда оставаться в детстве, потому что Бог любит детей и допускает их к Себе. Грешить тягостно и ужасно. Но Господь милосерден к бедным грешникам, которые истинно раскаиваются. Какая истина в этом! Это же и есть настоящая доброта.