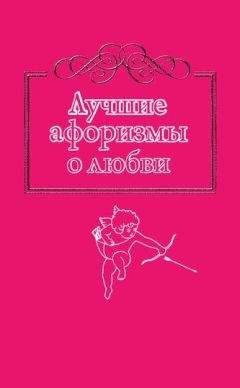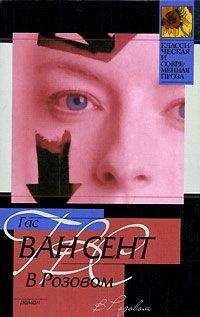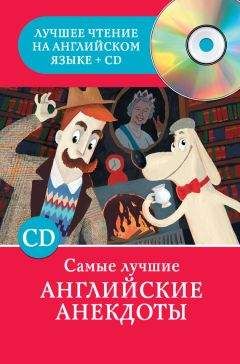Авигдор Даган - Петушиное пение
- У Филиппа, - послышались голоса.
- Филиппов амбар.
- Выгорит дотла.
- Только бы ветер не разнес дальше.
- Идемте гасить или мы все погорим.
Я побежал, старые ноги понесли меня быстрее, чем я мог бы предположить. И все же убежал я недалеко. Увидел их уже на полпути. Четверо мужчин несли тяжелое тело, и еще не видя его лица, я знал: это Палада.
Его несли ко мне. Лоб был помечен неровным разрезом ножа, а из двух ножевых ран в спине потоком лилась кровь, которую я долго не мог остановить. Он потерял сознание и не приходил в себя, даже когда я обрабатывал раны, которые, как оказалось, к счастью, были не слишком глубоки. Лезвие проткнуло мышцы, но не проникло в легкие. Я знал: он будет жить. Послал стоявших перед дверью мужчин назад, на пожар, туда, где пылал огонь, а сам остался с раненым Паладой. От потери крови он ослабел, дышал тяжело, но ровно, а я пока приготовил все необходимое к моменту, когда он придет в себя.
Я на минуту вышел на улицу, мужчины до сих пор кучкой стояли за моим порогом, некоторые отбегали к месту пожара и снова возвращались, приводя с собой и других, дико размахивали руками, кричали, как будто ссорясь, все разгоряченные, все точно в ocтолбенении, все, как Педро на крыше, зачарованные пламенем пожара.
- Это он, это Филипп его порезал, - кричали они, - за то, что поджег его амбар.
- А ты видел? Можешь подтвердить под присягой? Тогда нечего говорить, возражали другие.
- Хотел его убить.
- А Палада хотел пустить его по миру.
- Поджигатель?
- Оба заслуживают, чтобы их выгнали из деревни.
- Молчи уж! Возможно, Палада умирает. А что бы сделал ты, коли бы тебе подожгли амбар?
- Oпpaвдывай, оправдывай убийцу.
Так они швыряли друг в друга словами, тяжелыми, как камни, и я знал, если не заставлю их замолчать, вскоре вместо слов посыплются удары.
- Тихо! - крикнул я, caм поражаясь силе гнева, скопившегося в мoeм голосе. - Тихо, говорю. Все вы одинаковы, красная вам цена - одному восемнадцать, другому - без двух двадцать. Того и гляди все друг дружку поубиваете. Хватит с меня забот о Паладе. Никого тут не желаю видеть. Отправляйтесь гасить пожар. И если хотите, чтобы я еще когда-нибудь лечил вас и ваших детей, будете молчать. Поняли? Молчать как могила. Никто из вас ничего не видел, никто ничего не знает. А теперь - все на пожар!
Они еще немного поворчали, как собака, на которую прикрикнул хозяин, немного потоптались, но потом один за другим побежали к горящему амбару. Я знал, что надо делатъ. Даже не велел им посылать ко мне Филиппа. Знал, что придет caм.
Он прибежал, черный от сажи и пахнущий дымом, как раз когда Палада стал приходить в себя.
- Будет жить? - выдавил, еще не переступив порог.
Я помучил обоих. Прежде чем перевязать Паладе раны, еще раз обработал их, пожалуй, даже основательней, чем нужно, и вовсе его не утешая. Филиппу я долго не отвечал, а когда наконец поднял голову, сказал:
- Возможно, будет, возможно - нет. Но даже если я его выхожу, это не спасет тебя от тюрьмы. Ты хотел его убить, а я еще не уверен, что тебе это не удалось. Нo в любом случае твое место за решеткой.
Палада перестал вздыхать, точно я полил его раны бальзамом.
- Он поджег мой амбар, - яростно произнес Филипп. - Я должен был отомстить. Он поджег амбар.
- Кто это видел? - послышалось со стола, где лежал раненый Палада. Кто докажет?
И тут вмешался я:
- Я. Никто тебя не видел, но я-то знаю. Да и все знают. Кто еще мог это сделать? Все знают, но только я мoгy доказать, потому что ты сам мне говорил. И если ты вылeчишься, пойдете за решетку оба, а деревня от вac на несколько лет отдохнет.
Вздохи Палады смешались со вздохами Филиппа:
- Какой позор! Что будет с детьми? - заскулили они. Выли, как побитые псы, клянчили, как дети, у которых в наказание отобрали игрушки, валили вину один на другого, но накопившаяся злоба в их словах понемногу убывала, как тает снег на солнце, ибо они все яснее видели, что угодили в капкан. Я не отвечал ни тому, ни другому, делал вид, будто занят, еще несколько раз убедившись, что раны Палады не кровоточат, принялся за уборку и вел себя так, точно вообще их не слушаю. Точно их слова для меня - что горох об стенку. Точно я решился обоих отправить в тюрьму и ничто на свете не может изменить моего решения. Выждав, я сказал, сделав вид, будто мне стало их жалко:
- Хотя ни один из вас не заслуживает снисхождения, а годы за решеткой порядком бы вас охладили и обоим пошли бы на пользу, но, пожалуй, я смогу помочь вам иным способом. Могу забыть, что знаю, если вы запашете межу и отныне будете обрабатывать спорные поля, деля их поровну. Деньгами, которые ушли бы на судебное разбирательство, Палада оплатит нанесенный пожаром ущерб. А сейчас вы подадите друг другу руки и при первой же ссоре я вспомню, о чем обещал забыть. Все зависит от вас.
Они еще поворчали, похныкали и побрюзжали, но я больше не сказал ни слова, и в конце концов они успокоились и смирились с моим приговором. Признали его более легким, чем тот, какого бы им не миновать, окажись они в руках иного судьи. Не знаю, было ли тяжелее Филиппу подать черную продымленную руку раненому Паладе или тому пожать протянутую ему руку, но оба это сделали, а я только того и ждал, зная, что теперь они выполнят и остальные условия договора.
- Так, - сказал я Филиппу, - а теперь запрягай и вези Паладу домой. Утром я на него гляну.
- А пожар? - еще колебался Филипп.
- Мужики наверняка уже погасили, что смогли.
Вместе с Филиппом я вышел за порог. Я был прав. От деревни несло, как от коптильни, но кровь с неба исчезла, люди расходились по домам, еще издали крича мне, что справились с огнем, и ни один ни словечком не обмолвился о Паладе. Положились на меня, старого лекаря, который, когда надо, бывает у них и судьей.
Только теперь я заметил, что Педро слетел с крыши и стоит на карнизе окна. Наверное, он стоял тут уже довольно долго и знал все, что происходило между мной и этими двумя в горнице. Теперь он чуть виновато замахал крыльями и, нерешительно переступая с ноги на ногу, высоко оценил мои заслуги:
- Это ты хорошо сделал, доктор.
Так сказал Педро, который хвалит только солнце да в редких случаях еще красоту собственного хвоста. Мне никогда не доставалось большей похвалы. Я приложил руку ко лбу, выпятил грудь и по-военному отдал ему честь.
XXIX
Иногда ночью собаки воют на луну.
А то песнь Павлова корнета реет ночью, словно белая лента.
Порой я слышу, как соки поднимаются к ветвям по стволам деревьев.
Бывает, затаю дыхание, когда лунатик Марко при полной луне неуверенно ступает по гребню крыши.
Порой слышу ржание лошадей, пopoй тягучую литанию коров, порой и Педро проснется среди ночи и серебряным ножом своей песни прорежет темную тишь.
Порой камни молчат тягостнее, чем обычно.
Порой плач младенцев, порой причитания старух.
Порой вздохи одиноких, порой пульс обнявшихся влюбленных бьется в унисон, как хорошо слаженные колокола.
Порой воды в реке перестают шуметь и куда-то текут, текут.
И куда-то удаляются шаги ночного сторожа Тусара.
И я смотрю уже не на звезды, а неизвестно куда. Куда-то далеко? Куда-то близко? Куда-то.
Порой я вижу танец бабочек-поденок вокруг источника света. Порой кишение муравьев. Порой стаю цапель. Порой почки на деревьях. Порой стебли травы, поднимающейся ввысь.
А я здесь, чтобы свидетельствовать, что вой собак и ржанье лошадей - то же самое, что барабанчики лопающихся почек, и то же, что Павлов корнет. А танец бабочек-поденок как течение вод, и полет птиц как кружение звезд, - и все вздохи как удаляющиеся шаги ночного сторожа.
И мое молчание подобно молчанию камней, и неуверенным шагам лунатика, и стеблям травы, и ветвям деревьев, и вою собак.
Ибо во всем, во всем этом скрыта тревога детей, заблудившихся среди дремучего леса, стук окровавленных кулаков в железные ворота, ключ к которым мы потеряли, беспомощность опавших листьев, подхватываемых ветром и вновь и вновь бросаемых им на землю, жажда затерявшегося в пустыне, плач младенцев, не умеющих сказать, что у них болит.
А потом собаки перестанут выть, Павлов корнет затихнет, я встану со скамьи перед домом и вернусь в постель. Это мгновение похоже на челн без весла, вздымаемый на волнах и все же куда-то плывущий.
ХХХ
- Идите, друг мой, идите, - еще издалека кричит отец Бальтазар и катится мне навстречу, словно бочонок, едва я успеваю закрыть за собой садовую калитку. - Хорошо, что вы пришли. Я едва вас дождался, приветствует он меня каждое воскресенье, улыбаясь, точно луна, всем широким лицом. - Агата! - кричит он в дом. - Агата, принеси вина и чего-нибудь повкуснее дорогому гостю.
И ведет меня к столу, сколоченному из круглой доски, положенной на пень от дерева, вокруг которого много лет назад построили беседку, теперь увитую сладкими виноградными гроздьями. Агата уже несет бутылку, рюмки и полную корзину угощений.