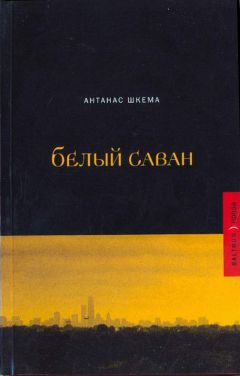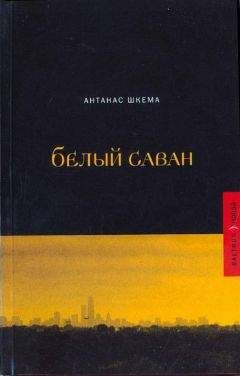Антанас Шкема - Белый саван
Я провел рукой по лицу. Как тогда, в Паланге. Мне хотелось стоять и выкрикивать слова. Но они не должны были напоминать книжные заимствования. В моем сознании по-змеиному извивался крик. У моря возле черной воды на липкой земле громоздились какие-то обломки. Улитки странной формы, изнемогающие от жажды крабы, гниющая рыба да еще какие-то папоротники повисли возле самого лица, и разорвать эту завесу из привидений не было никаких сил.
Я обернулся. На веранде меня ждала Йоне. Даже не заметил, как она вылезла в окно. Я вбежал на веранду, схватил Йоне за руки и потянул за собой на улицу. Мы почти бегом добрались до железнодорожных путей, по которым давно не ходили поезда, зато здесь по-прежнему стоял семафор. Я сжал девушку изо всех сил, так что напряглись мускулы, а Йоне закричала. Потом впился в ее губы, и в тот же миг мои руки, крепкие и безжалостные, опрокинули ее на траву. Перед глазами блеснула ее нагота: бедра, темный треугольник внизу живота, и, когда я на минуту оторвался от девичьих губ, чтобы вобрать в легкие побольше воздуха, услышал ее резкий, гортанный крик.
Йоне кричала, а я снова видел перед собой черное море, груды больших каменных осколков (на самом деле это были сброшенные в кучу шпалы), я видел улиток странной формы, крабов, рыб, папоротники — все это сейчас надвигалось на нас. Йоне кричала, когда-то я уже слышал этот крик, тогда у меня не было ни рук, ни ног, и я комочком катился в незрячей тьме. Йоне кричала, и пульсировавшая во мне кровь, казалось, вот-вот хлынет из набухших жил. Ладонью я зажал Йоне рот. Она затихла, и я взял ее.
Когда все закончилось, я произнес:
— Оденься.
И пока она приводила себя в порядок, я не отрывал взгляда от семафора. Того самого семафора, покосившегося, с выбитыми сигнальными стеклами, с нацарапанными на нем ругательствами, с нарисованным сердцем. Повернулся я к ней как-то очень нерешительно.
— Ну, с тобой все в порядке? — спросил я.
— Ты порвал мне платье, — ответила Йоне и заплакала навзрыд.
— Идем домой. Ты держись рядом. Я тебя не трону, — проговорил я, уставясь в землю. Мы вместе вернулись в город. Понемногу она перестала плакать, слышалось только равномерное шмыганье носом. У веранды мы остановились.
— Не сердись, — попросил я. Потом тихо прибавил: Ты могла бы подождать?
— Чего? — поинтересовалась Йоне. И мне полегчало от этого вопроса.
— Я очень люблю тебя, Йоне. Понимаешь, я погорячился, когда-нибудь позже все тебе объясню. Ты могла бы подождать, пока я устроюсь, подыщу себе место? Больше я так не буду. Обещаю.
Дрожащей рукой я дотронулся до руки Йоне, и она не отняла ее.
— Я женюсь на тебе, Йоне. Хорошо?
— Хорошо, — отозвалась она. И поцеловала меня в щеку.
— Иди спать. Завтра встретимся у озера. Договорились?
— Договорились.
И я ушел домой. Больше я уже не видел, не чувствовал и не слышал убаюкивающей ночи.
Конечно, любовь наша продолжалась. Три года. Мы встречались в сосняке, здесь, в Аукштойи Панямуне, в орешниках Еси, в моей комнате, у моего друга. И когда я начал обманывать Йоне, то все еще верил: в один прекрасный день мы поженимся.
Маленький городок. Серое озеро в котловине. Осушаемые болота, где по-прежнему бродили аисты, покрикивали чибисы, и порой слышались стенания утопленников, этих загубленных душ. Старый, разбитый, осклизлый тротуар. Трогательные в своей беспомощности маски. Духовой оркестр пожарного общества играл танго «Пантера» в темпе похоронного марша. Веранда в доме нотариуса. Семафор. Моя юность — прорвавшаяся стихотворением про повешенных и первой любовью.
Они втроем сидят в раздевалке на скамье и курят. Joe, Stanley, Гаршва.
— На следующей неделе отправляюсь в Филадельфию, — замечает баритон Joe.
— Зачем? Небось, девочка? — осведомляется Stanley. От него слегка попахивает. Он глотнул Whiskey. Stanley седой, хотя ему всего двадцать семь. У него дрожат руки, красный нос выдает наклонности его дедушки — обанкротившегося шляхтича из-под Мозыря. Он прямой и какой-то плоский. Stanley знает по-польски лишь несколько слов: Dziękuję, ja kocham, idź srać[39] и почему-то zasvistali-pojechali.
— Нет. Меня радиофон из Филадельфии приглашает. Они оплатят дорожные расходы, питание и отель, да еще в карман положу двадцать пять долларов.
— Ты их в банк положишь, — заверяет Stanley.
Круглое лицо Joe покрывается румянцем.
— Ну уж, разумеется, на ликер тратить их не собираюсь.
— А чего ж тогда краснеешь?
Joe сжимает кулак.
— Гороховая каша, — говорит Stanley и глубоко затягивается, жадно втягивая в себя сигаретный дым.
— Joe хочет петь. И это вовсе не смешно, — замечает Гаршва.
— А мне всегда смешно, когда разевают рот, — спокойно возражает Stanley.
— А сам себе ты не смешон? — спрашивает Joe.
— И сам себе тоже. В таких случаях я сую в глотку горлышко бутылки.
Stanley стряхивает пепел сигареты.
— У моей девчонки вместо пупка дырка, — неожиданно произносит он.
Гаршва переглядывается с Joe.
— Через два года и ты так же заговоришь. После двухлетней работы лифтером в голове все перемешается.
— Да и двух лет ждать не придется. У тебя в голове все перемешалось еще в утробе матери.
— Послушай, Stanley, — раздражается Joe.
— Красиво! Вот это нота. Си-бемоль, кажется, — констатирует Stanley. Joe удивленно за ним наблюдает. Stanley принимается насвистывать.
— Угадай, откуда? — Спрашивает он.
— Не знаю, — по-детски признается Joe.
— Это Моцарт. Аллегро. Симфония номер сорок. Си-минор.
Stanley поднимается, громко портит воздух: «угадай, откуда?» — задает вопрос и выходит в коридор.
— Странный парень, — говорит Joe.
Мы вдвоем выходим в коридор. Я должен сражаться и характером, и мозгами. Носиться в лифте и писать стихи. Это неважно, что я обессилел. Старичок Дарвин улыбается в окружении воспитанников Спарты. А кто мои ангелы-хранители? Несколько сумасшедших, которым и в раю не сыскать для себя спокойного местечка. Маленькая книжечка стихов — вот чего я жажду. Я даже начинаю молиться. Интересно, это знак силы или слабости? У меня не хватает сил искать ответ в книгах. Переизбыток. Выколи глаз, отсеки одну руку — предлагается в Писании. Который глаз и которую руку? Ведь я многорук и многоок. У меня сотни глаз и сотни рук.
И снова «back» лифт, снова lobby, снова девятый номер. Да, госпожа, нет, мисс, о да, масоны, кардинал, шиншиллы. Стрикт-стрикт по лугу, задрав хвост, разве это не высшая благодать? И зубами, и ногтями, и всем телом! И кровь, которая отныне уже не противна. И сознание, которого просто больше нет.
6
В 1941 году Антанас Гаршва партизанил. Красные отступали, оставляя Каунас. Разрозненное отступление под натиском немецкой армии порождало анархию. Иногда красноармейцы бросали оружие и засыпали прямо в придорожных канавах. Их могла взять в плен любая мирная девушка, и просили они только хлеба и воды. Бывало, что красные насиловали мирных девушек и протыкали штыками тех, кто попадался на пути. Партизанское движение возникло стихийно. Вместе с известием об отходе красных.
Борьба велась по принципу игры в прятки. Из гущи деревьев, из-под разрушенных мостов выскакивали человеческие фигуры и сцеплялись в смертельном объятии. Неизвестно откуда залетевшие пули прорежали листву, выбивали стекла в летних домиках Аукштойи Панямуне. А дни и ночи сменяли друг друга такие погожие, ясные, безветренные.
Антанас Гаршва патрулировал в Артиллерийском парке. Он получил задание: следить, не переправляются ли через Неман красные. Лежал на крутом берегу, положив рядом винтовку, и смотрел на воду. Светило солнце, чирикали воробьи. На той стороне Немана желтел песок и коричневым пятном выделялась аккуратно сложенная поленица дров. В чистое небо поднимался дым каунасских пожарищ.
Вдруг Антанас Гаршва уловил незнакомый звук. Какой-то ритмичный, затихающий стон не то женщины, не то ребенка. Ау-ау-ау, а-у-у-у. Когда звук оборвался, на воде послышался плеск, полетели брызги. Пуля, так ни в кого и не угодившая, бесцельно закончила свой полет.
Все это дошло до Антанаса Гаршвы значительно позже. А в тот момент он просто обернулся. И увидел молодого русачка, лет семнадцати, голубоглазого, с растрепанной прядью волос, которая воспета как «чубчик кучерявый» в одной хорошо известной песне. Винтовки у русского не было. Вытянув перед собой руки, он весь подался вперед, как бы изготовившись к прыжку.
Потом Антанас Гаршва провел долгие часы, стараясь припомнить каждую мелочь. Но это было невозможно. В память врезался сам результат, а напряженную схватку он почему-то не зафиксировал. Ему запомнились только отдельные детали, рельефные, четкие. Запах пота; красный туман в глазах; острый камень, который успел схватить; удары. Пуля по-прежнему неслась в пространстве, а удары уже затихали. Багровая завеса спала с глаз, зато красным туманом теперь окутало голову красноармейца, и красная мгла превратилась в кровь. Запах пота становился все резче. И Антанас Гаршва вдруг почувствовал: он снова обрел тело. Болели макушка, живот и левая рука.