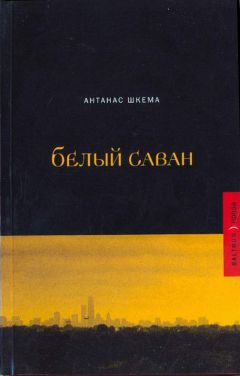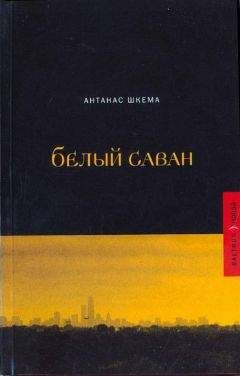Антанас Шкема - Белый саван
— Вы сердитесь?
— Да оркестр нескладный, — ответил я.
Потом я провожал ее домой. Сын нотариуса еще раньше исчез вместе с евреечкой из Йонавы. Теплой летней ночью мы шли по узкому тротуару, шагать надо было осторожно, чтобы не упасть в придорожную канаву. Замечательный это был тротуар! Старый, истертый, скользкий, тут уж непременно следовало поддерживать Йоне повыше локтя. Ведь иначе она могла поскользнуться и упасть в тянувшуюся вдоль дороги канаву.
И когда мы с нею подошли к дому нотариуса с длинной открытой верандой, остановились, не зная, о чем говорить.
— Красивая веранда, — произнес я.
— Иногда сижу ночью на веранде. Когда не спится, — откликнулась Йоне.
— О чем-нибудь думаете?
— Мечтаю.
— О чем?
Мы уселись на веранде на плетеную скамеечку. Прямо перед нами раскинулось пустое поле, залитое лунным светом. Редкие железнодорожные огоньки светились за этим полем тусклыми свечечками. Огоньки и болотный туман сливались с лунным светом.
Йоне ничего не ответила на мой вопрос, и я не знал, что мне делать дальше. Мне только-только исполнилось девятнадцать лет, но обниматься я любил, это дело мне было совсем не чуждо. Я даже завел книжечку, куда заносил имена любимых. Список состоял из белошвеек, фабричных работниц, проституток. Оставалось протянуть руку и осторожно коснуться Йониных волос. И если она не отодвинется, я обретал право на ее шею, плечи и губы. Однако ничего такого предпринимать я не стал, а лишь повторил свой вопрос.
— Так о чем вы мечтаете?
— Не знаю. Просто так. Сижу и смотрю в поле. Люблю теплую летнюю ночь, даже не могу заснуть.
Она шевельнулась.
— Я пойду домой, — произнесла она чуть слышно.
— Подождите. А мы будем дружить? — вдруг вырвалось у меня.
— Не знаю. Они меня стерегут. Я должна их слушаться.
И она рассказала про своего неимущего отца, сторожа Каунасской консерватории, про мать, прачку с набрякшими от вечных стирок руками, про то, что ей сильно повезло, так как нотариус вызвался ее опекать. Йоне поднялась.
— Давайте дождемся возвращения Витаутаса, — предложил я. Так звали сына нотариуса.
— Боюсь. Потом станет еще насмешничать.
Я так и не коснулся ее волос. Поднялся следом и пожал твердую ее руку, затем галантно поклонился, как учила меня мать. Как-то по-солдатски развернулся, неожиданно для себя замер на месте, повернулся, неловко согнулся и поцеловал Йоне в лоб. После чего тут же сбежал с веранды и припустил по узкому тротуару, чтобы как можно быстрее унести ноги от дома нотариуса и не выглядеть растерявшимся глупцом. Уже на повороте, когда я собирался юркнуть в свой проулок, налетел на весело посвистывающего сына нотариуса.
— Ну, как евреечка? — второпях осведомился я.
— Завтра у семафора опять будет дело. — Мы оба цинично посмеялись.
В следующую ночь было точно такое же полнолуние. Я сидел в комнате и смотрел через окно на лунные кратеры. Оттуда должна была прилететь ко мне Муза. Ибо я решил изучать литературу. Мне хотелось написать несколько стоящих стихотворений за лето, чтобы потом в университете числиться в талантах. На столе лежали книги. Verlaine, Baudelaire, Рое, «Тысяча и одна ночь». В руке я держал перо. Каждый миг я готовился к встрече с Музой, обитавшей среди лунных кратеров. Она должна была меня ослепить, пронзить, одарить. В ожидании ее на столе белел чистый лист бумаги. Тикал будильник. Городок спал, не лаяли собаки, не слышались людские голоса. Я знал, вдохновение так вдруг не посещает поэта. И вот я сидел и наблюдал за лунными кратерами, слушал тиканье будильника и ждал. Но Муза и не думала появляться. «Ох, хоть бы какая собачонка забрехала или пьяный прохожий ругнулся под окном!» — стала донимать меня мысль. Однако было тихо. Я встал и взглянул в висевшее на стене зеркало. «Да, у меня действительно лицо поэта, — решил я. — Длинные волосы, мечтательные глаза. Правда, кожа слишком загорелая, но представим, что я живу в Бразилии, разве не может быть такое? А если начать курить трубку, пить вино, ругаться? Неужели нельзя обойтись без вдохновения?» Я принялся сочинять с холодным рассудком.
Спустя час я закончил стихотворение. Теперь трудно точно восстановить его по памяти. Что-то вроде того: на ветках липы тихо раскачивались три или четыре повешенных. Дул пронизывающий ветер. Девочка с растрепанными косами рыдала, обхватив ноги красавца-висельника. И поэт безгранично тосковал, ведь у остальных двух или трех несчастных не было такой сострадающей девушки. И в конце я написал о том, как луна с ужасом взирала с небес на эту трагедию.
Я выпрямился с видом победителя. «Да, я поэт», — усмехнулся, еще раз бросив взгляд на себя в зеркало. Тогда я впервые заметил дырку в своем верхнем переднем зубе. Черное дупло портило улыбку. «Всюду кратеры», — подумал я. И снова, как когда-то в Паланге, гордость мгновенно истаяла во мне. Еще раз пробежал глазами стихотворение. Оно мне разонравилось. «Повсюду кратеры, кратеры, кратеры», — повторял я сквозь стиснутые зубы. Вот эти самые поэты, чьи томики стихов лежат на моем столе, своими совершенными строфами уничтожают мою жалкую поэзию. И где мне найти оливковое дерево, сидя под которым я смог бы, подобно Гомеру, ронять в пространство мраморную красоту? Надо встать и пойти прогуляться. Это лучшее средство от волнения. И я тихонько выскользнул за дверь.
Едва мои башмаки ритмично застучали по тротуару, на ум сразу пришла Йоне. Я поглядел на часы. Как раз за полночь. Вчера Йоне призналась: она любит помечтать на веранде. Вот чем можно уравновесить все эти кратеры! Сегодня ночью я протяну руку и коснусь ее волос, я не буду целовать ее в лоб, я крепко прижму ее к себе и стану целовать в губы. Нет, разумеется, я и помыслить не мог, что потащу Йоне к семафору! Нет! Я просто буду ее крепко обнимать. И так просижу с нею вдвоем куда дольше, чем над стихотворением о повешенных.
Веранда оказалась пуста. Никого на плетеной скамеечке. Как вчера, рядом простиралось безлюдное поле, залитое лунным светом. Редкие огоньки тусклыми свечечками светились там, вдали. И все так же огоньки, болотный туман сливались с призрачным лунным светом.
Я прождал два или три часа. Всякий шорох, отдаленный неясный звук, пролетевшая над головой летучая мышь, тишина, которая, казалось, полнилась музыкой, только тональность ее была слишком высокой, плохо различимой, — все волновало меня, хотелось плакать, и я с трудом сдерживал себя. Йоне не вышла помечтать. Вернувшись домой, я разорвал стихотворение.
Каникулы подходили к концу, а я по-прежнему провожал Йоне до дома, когда мы возвращались с озера. Мы исходили с нею все болота. Я держал ее за руку, но так и не осмелился поцеловать, не решился даже спросить у Йоне, почему она тогда не вышла на веранду, почему не появилась там в последующие вечера. Ведь я целых две недели бродил вокруг дома нотариуса. Ночи были какие-то однообразные. Луна постепенно растапливала в небе свой левый край.
Однажды в полдень, когда мы возвращались после купания и Йоне так пахла водой, у меня вырвалось:
— А ты врунишка.
— Я? — удивилась она.
— Да, ты. И вовсе ты не мечтаешь на веранде. Я точно знаю. Две недели бродил вокруг твоего дома. Ты врунишка, а строишь из себя серьезного человека.
Йоне рассмеялась. У нее были кривоватые зубы, белые и сверкающие. Смеялась она долго, я даже разозлился.
— Нельзя смеяться над романтикой.
Йоне шагала рядом, с загорелыми ногами, в спортивных тапочках. Она сказала:
— Я не могла сидеть на веранде. Пришлось бы проходить через их комнаты, боялась всех разбудить. О веранде только мечтала.
— Могла бы через окно выбраться. Надо было спрыгнуть, всего-то метр от земли. Я знаю.
Йоне сцепила руки за спиной и на ходу принялась отшвыривать пятками комья земли, они летели в разные стороны.
— Я приду сегодня ночью. Ровно в двенадцать.
Йоне метнула на меня быстрый взгляд. Возможно, я ошибался, но мне показалось, я заметил у нее в глазах испуг. Мы молча расстались, когда впереди замаячила городская водокачка. Я остался здесь, на болоте, и стоял до тех пор, пока Йонины загорелые ноги не скрылись за насыпью. До самого вечера я видел перед собой их упругое свечение.
Еще не пробило полночь, а я уже стоял возле веранды. Небо заволокло тучами. Болотный туман плыл над безлюдным полем и готовился заполонить всю улицу. Я чувствовал влажное прикосновение тумана. Какие-то бесформенные тела обвились вокруг меня, и когда я замотал головой, желая стряхнуть их с себя, сотни чьих-то пальцев с нежной остервенелостью забрались ко мне за шиворот, и по коже пробежал озноб, я похолодел от предчувствия того, что скоро все окончательно завершится. Это не был обычный озноб, ночь выдалась теплая, скорее, то было хорошо знакомое томительное ожидание, наверное, именно так заявляет на тебя свои права строгая и заботливая мачеха.