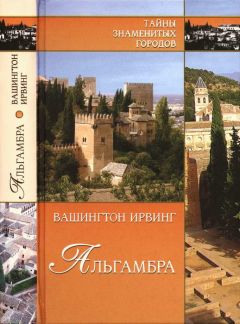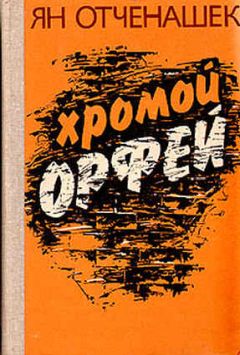Ян Отченашек - Хромой Орфей
Бацилла виновато отвел глаза и уставился на фотографию.
- Это ваш муж?
Рука с гребнем на мгновение остановилась, брови снова приподнялись.
- Нет. - И тотчас она осадила клиента: - А тебе какое дело? Разве я должна тебе исповедоваться?
- Нет, нет, я совсем этого не думал, - испуганно пробормотал Бацилла.
- Ну то-то! - Она улыбнулась с дешевым кокетством. - А то иные пристают с дурацкими вопросами. - Она резко обратилась к воображаемому собеседнику: "Получил, чего хотел и за что заплачено, а теперь сматывайся отсюда, какое тебе до меня дело! Я тоже не спрашиваю, что делает твоя старуха. Только не привязывайся. Каждому надо где-то пристроиться, после войны меня тут уже не будет..." - Слушай-ка, - спросила она вдруг, - как ты думаешь, после войны будут ходить эти деньги?
Бацилла беспомощно пожал плечами.
- Откуда мне знать?
- Вот видишь, ничего ты не знаешь, и я ничего не знаю. Может, они потом сгодятся только на оклейку стен, а? - Она потянулась. - Эх, поспать бы! Ну, пока. - Открывая ему дверь, она погладила его по щеке. - Если тебе захочется еще, приходи. Спроси Карлу. У швейцара спроси, а с этой коровой не связывайся, она на меня имеет зуб, потому что я не иду с каждым скотом. Как тебя зовут-то, кубышка?
Он проглотил горячую слюну.
- Бацилла.
Она рассмеялась.
- Бацилла? Ну и имечко! Ну ничего, всякое бывает имя. Что еще скажешь, Бацилла?
Он переступил с ноги на ногу и виновато замигал, словно прося бог весть о каком развратном поступке.
- Можно мне называть вас Корой? - И тотчас потупился и покраснел.
- Сколько угодно, пампушка! Заплати деньги, веди себя хорошо и можешь называть меня хоть царицей Савской или Марлен Дитрих. Как вздумается. А теперь беги домой!
Ветер на улице накинулся на Бациллу, как пес, долго ожидавший хозяина. Было сыро, и пахло дымом. Бацилла закрыл за собой стеклянную дверь, на его разгоряченное лицо упали холодные снежинки и сразу растаяли. Он поглядел на светящийся циферблат часов и с изумлением заметил, что пробыл у девицы всего несколько минут. Несколько минут, вырванных из вечности... Где же Богоуш? Они сговорились встретиться здесь, на углу... Не случилось ли с ним чего? Нет, все в порядке. Через минуту двери выпустили знакомый силуэт. "Приветик!" - и они зашагали по улицам, кутаясь в пальто и погрузившись в свои мысли. Оба вздрагивали от холода, обоим было не до разговоров. Только дойдя до Мустка, Бацилла тронул приятеля за рукав.
- Ну как?
- А что?
- Ну, как твоя?
Минутная пауза, потом:
- Класс! - Богоуш не замедлил шага. - Страстная! - Еще пауза. - А твоя?
- Тоже.
Больше они не проронили ни слова. Богоуш направился к остановке на ночной трамвай к Дейвицам, а Бацилла пошел пешком на Винограды. Домой, домой, к мамуле! А что, если она по его лицу догадается? Если она заметит, что он какой-то иной? Бацилле страшно захотелось застать мать уже спящей, но он знал, что она никогда не уснет, пока его нет дома. "Это ты, мальчик?" - всегда слышится сладкий голос из спальни. "Я, мамочка, спи, пожалуйста".
Умыться, принять ванну, поскорей смыть с себя все это!
Синие огоньки мелькали мимо него. Бацилла слизнул снежинки с губ. Снежинка жгла язык и отдавала сажей. В ободранном парке он обошел парочку влюбленных, замерших как изваяние, и ему вдруг почему-то стало жалко их. И себя тоже. Всех жалко. Весь мир был полон безмерной жалости и разочарования. Что с тобой. Бацилла? Ты же хотел этого, хотел как одержимый, а теперь?.. Теперь тебе тоскливо. Почему, собственно? Ему стало совершенно ясно, и он поклялся себе, что никогда больше не пойдет туда, забудет обо всем, что было сегодня. Но, несмотря на эту решимость, он уже чувствовал, что... О господи, это конец!
Обессиленный, он опустился на мокрую скамейку, его мутило от запаха фиалок и чего-то еще, чем пахли его пальцы и складки одежды. Застывшие руки упали на колени, и Бацилла сидел долго, долго, глядя в кромешную тьму.
VI
Кто-то отчаянно дубасил железом по обрезку рельса, металлические удары словно вонзались в стену и царапали мозг, надо всем этим метались голоса сирен - они переплетались, усиливались, затихали, в закрытые глаза уже пробивался дневной свет, но Гонза приказал себе: не впускать его! Чья-то рука трясла за плечо. "Вставай, пошли в подвал!" - он узнал голос деда, но не открыл глаза малейшее движение головы отзывалось страшной болью в висках, на душе было тяжело.
Не все ли равно! Гонза повернулся лицом к стене, наконец хлопнула дверь, его оставили в покое, но сон словно исторг его, как кит Иону - выбросил на берег, куда-то между сном и бодрствованием, в жгучее оцепенение, когда в голове какая-то каша, перед глазами плывут круги красного и лилового тумана, затягивая все, и с нудной навязчивостью всплывают где-то слышанные фразы: "Африка - страна плоскогорий", и снова: "Африка..." Какое мне дело до Африки? Внутри какая-то безотчетная, неосознанная боль, скорее даже не боль, а сознание непоправимости...
Самолеты уже над городом, и тишина вздрагивает, как кожа на барабане, а над ней угрожающий монотонный гул, от которого жалобно дребезжат стекла... Пускай, какое ему дело до их войны! Он покончил с ней, есть только Африка страна плоскогорий. Ведь ему все равно!
- Не выходите из дому! Назад! - кричит кто-то на улице. - Назад!
Какой сегодня день? Такой-то год, такое-то число, но могло быть и совсем другое, лучше не думать, только это не получается. Из памяти не выходит комната у Коблицев, чьи-то обезьяньи руки кладут пластинку на диск радиолы... и лицо той девчонки - ее зовут Магда, у нее испуганные глаза, как у ночного зверька. Гонза пошел с ней куда-то и спал с ней - ага, значит, я не импотент, доказано! - он перепился скверным вином, и ему было на все наплевать. "Ш-ш-ш", - останавливала его Магда в темном коридоре, и было смешно от этого шиканья; он стал насвистывать блюз, тот самый голубой "флуоресцирующий блюз". "Ш-ш-ш, разбудим квартиру". Потом они вошли куда-то, где на потолок падала полоска света и пахло пудрой и несвежим бельем. Гонзу мутило от выпитого вина, а Магда что-то шептала и искала спички; как-то надо существовать, нельзя же выскочить из этого мира, как из утреннего рабочего поезда, надо занимать в нем свое место, хоть бы в двух метрах под землей... Это ужасно, что нельзя испариться, как влага или как аромат, или замереть, как звук. "Не трогай меня!" Гонзе было муторно от этой гнетущей телесности. Руки с красными ногтями убрались, и ему не было жалко их, потолок вдруг перекосился. "Есть у тебя душа? - глупо и упрямо приставал он. - Нет, верно? Да и к чему она тебе?" - "А может, и есть, она у меня в коленке".
И опять завод, такой-то год, такое-то число. Но могло быть и другое. Нет, не сдамся и не подумаю! Жить можно ради чего угодно, даже из одного упрямства. Ради сущих пустяков... Лица наплывают и уплывают, дзуб... дзуб... - над головой грохот... Боже, когда все это кончится? Что с вами, молодой? Это Мелихар. Он вправе изругать Гонзу, потому что тот продрых в малярке всю смену. "Есть ли в раю столько мешков?.." И Мелихару пришлось взять в помощь Гияна. "Перебирать не надо, молодой! Попадетесь Каутце на глаза, не поздоровится. Давайте-ка очухивайтесь, живо!.."
- Назад! - все кричит кто-то. - Не выходить из дома!
Свисток...
А ему, Мелихару, какая печаль? Пусть на меня накляузничает! Ах, Мелихар! Не выкладывать же ему, в чем дело? Что он сказал бы мне на все это, грубиян?.. "Ну, сколько раз выжмешь?" - Мелихар вызывает его на привычную пробу силы и подбрасывает в воздух поддержку, как перышко. Гонзе это уже претит, на пятом разе тяжеленная поддержка выскальзывает у него из руки и шмякается на бетон.
Но вот он и Мелихар сидят друг против друга за пивом. Глубоко посаженные глаза бригадира в упор глядят в лицо Гонзы.
- Что, молодой, отшила тебя зазноба?
Ослышался?! - думает Гонза. - Неужто он догадался? Гонза быстро поднимает глаза и снова опускает их на пивную кружку.
Куда бежать? В себя? От себя? Некуда! Можешь только быть собой и смотреть на себя со стороны, что довольно мучительно... Болят разбитые губы, и это заглушает душевную боль; он идет по коридору и несет в себе эту безнадежную боль, За дверями грохочут станки. Гонза проходит мимо плаката "Лиги против большевизма", мимо красных, похожих на стручки перца, огнетушителей, поднимает голову, замечает, что Бланка замерла на месте. На секунду - актриса должна хорошо владеть собой. Кто знает, осталась ли у нее еще эта боль? Он идет дальше и твердит: "Когда-то Лотова жена..." Он строго-настрого запретил себе оборачиваться в ту сторону, хотя это чудовищно трудно. Нет, так дальше невозможно! Что же делать? Схватить камень и швырнуть его в окно живодерки? "Извините, - скажет он Мертвяку, - разве это не окно герра Гитлера?" Или вбежать к Каутце и дать ему под зад коленкой: "Привет герру имперскому протектору! Скоро ли вас повесят?" Совсем одурел! Чей я? Просто часть непогоды, заборов, трав... Я ничей, но кто на этом свете чей-нибудь? Душан?.. Ничего нельзя поделать! Ни выстрелить, ни убить - ничего! Даже самого себя?.. Даже самого себя!