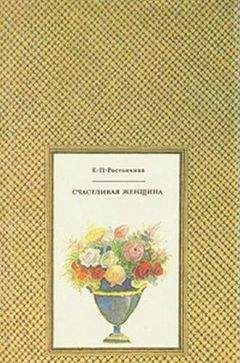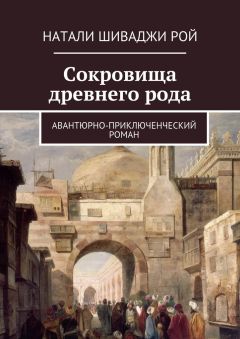Анатолий Байбородин - Озёрное чудо
И так Ивану стало горько и стыдно, что хоть сквозь землю провались. «Ну какой же я писатель, коль с метлой?! Взаправдашние писатели в мягких креслах сидят — на резном письменном столе чернильный прибор и бронзовая статуя Пушкина, за спиной по-леница книг в старинных переплетах — сидят, мудрецы, карандаши вострят, бумагу в машинку заправляют, музу абрамовну поджидают; либо с высоких подмостков глаголом жгут, а уж метлою машут бездари, неудачники, коих по Руси хоть пруд пруди. Вот Распутина, взять, либо Астафьева — там и порода, и степенность, и важность — пророки; а я — малый псишко до старости щенок, пугало огородное: тощий, кожа да кости, башка словно котел на сухом колу, нос несуразно длинный, отчего рьяные да пьяные русопяты, видя мой шнобель, слыша мою картавую речь, еврея во мне углядели; к тому ж деревня битая, уродился я пуганый, куста боялся, перед всеми пресмыкался, всем хотел угодить, всех развеселить; а в довершение еще и суетливый, болтливый. Вот у нас в селе Груня была, про нее судили-рядили: Груня — ничо бабенка, хошь и шибко болтовата, тепленькая водичка у ей не держится. Про меня сказано…Нет, брат, не выйдет из меня большой писатель, рылом не вышел. Да и бездарь, поди…»
Даже старинные приятели, с кем пуд соли съел, похоже, невысоко ценили писательский дар Ивана Краснобаева — воспел и оплакал русское село, до него вдоль и поперек исписанное всемирно славленными вроде Астафьева, Белова и Распутина. А посему толком не читали — рассеяно листали Краснобаевские книжки. Но ежли бы сверху, из столицы, прилетело славословие, тут бы вокруг завились, засуетились: слава есть — Иван Петрович, славы нет — паршива сволочь… Помнится, даже крестовый брат Саша Турик из «Союза русского народа» укорял при встрече: «Россия гибнет, народ вырождается, а вы не чешетесь!..» — «Чешемся — книги о народе пишем…» — хотел Иван огрызнуться, но — хотел, да вспотел — оробел и лишь спросил: «А что делать, Саша?..» — «Что, что?! Не сидеть сложа руки… Можно листовки по городу клеить…» — «Некогда мне, Саша, листовки клеить, — ехидно отозвался Иван. — Копейку зашибаю. Семью-то надо кормить… Ты Распутина попроси — он же на пенсии, пусть клеит листовки. Всучи котелок с клейстером…» Вообразив, как великий писатель бродит с ведерком по городу, клеит на заборах листовки, Саша вспыхнул праведним гневом: «Сравнил хрен с пальцем… Распутин — писатель земли Русской…», и хотел, наверно, прибавить: «А ты болтаешься, как шавяк в проруби…», но пожалел брата крестового.
Выпить Ивану захотелось либо напиться с горя, как Иову Горюнову, герою его сказа… Поминулось: лет десять назад обитал Иван в родном селе, прирабатывал истопником в деревенской газете, а вольной порой кроил и шил неказистые сельские сказы-рассказы. И вдруг рассказ «Двое на озере» вышел в «Литературной России» аж в самой Москве, да еще и с напутным словом самого Распутина. Счастье привалило ни в сказке сказать ни пером описать. Мало того, за рассказ — да, поди, за распутинское словцо замолвленное — присудили Ивану еще и премию российскую. Дня два Иван, подкинув дровец в редакционную печь, снова да ладом перечитывал рассказ, волнуясь, дивясь: он ли, деревенский катанок, эдакое сочинил? Слова, еще недавно написанные острым карандашом, вытянутые на серой осьмушке в бисерную нить, потом переписанные черными чернилами и коряво отпечатанные «слепым шрифтом»…с лентой было туго, и он смачивал старую соляркой… — строки эти, ныне пропечатанные в литературной газете, вдруг обрели некую отстраненную от него, беспроклого сочинителя, строгую важность словно это и не рассказишко, а — страшно и подумать — государева грамота. Помянулось злорадно: деревенская литераторша пророчила ему, бестолочи: де, толку из тебя, Ваня, не выйдет, а тут на тебе, вся Россия внимает…
И вот зимой, злой, метельной, когда рассказишко и вышел в «Литературной России», когда и премию подкинули детишкам на молочишко, шуровал Иван дрова в редакционные печи, чтобы сельские газетчики грелись не одной сорокаградусной, но и живым печным теплом, и вдруг слышит, редактор к себе манит. Как работал в телогрейке, с кочергой, так и завалил к «тяте» — свои люди, кого стесняться. Вошел в кабинет, огляделся: сидят у «тяти» нездешние — городские, нарядные, а посреди кабинета кинокамера на треногом козле. Понял Иван: городское телевиденье… Редактор похваляется: дескать, вот наш молодой писатель, сочинил рассказ «Двое на озере», премию отхватил российскую, можете снять. А те глянули на Ивана в телогрейке да с кочергой, так и скисли, да и раздумали снимать, истопника прославлять.
* * *Писателей прихватили музейные девы, повели дворы казать, а Иван, припрятав метлу, поплелся в дворницкую камору, где поджидал ангарский чай, сорочье перо со стерженьком, линялая, сухо потрескивающая бумага и дряхлая машинка. Пить с горя раздумал — смертная тоска с похмелья, хоть в петлю суйся или глаза завяжи да в омут бежи; нет, надо работенкой спасаться. И когда брел мимо «деревенских» подворий, оглядывал амбары, избы, потихоньку улеглась недавняя досада, и в умиленное, печальное воображение явилось закатное видение, обряжаясь в словесные наряды и рубища, чтобы через долгие лета явиться в повести…
…Однажды осенью загадал я с пред снежной печалью, что не дожить ему до светлого утра, когда народится храм Божий в его притрактовом селе, давно уж обезбоженном, пьяном, злом и вороватом. Оно, конечно, вызреет благая пора для храма, но душа моя уже покинет юдоль грешную, и, может быть, проплывая над синим озерами и белесыми степями, вдруг сладостно замрет, покачиваясь на причальных волнах колокольного звона. Я даже запечатлел его в стихе, что явился покаянной, хворой ночью, когда боль, спалив грешные помыслы, отлегла, и о смерти думалось легко и беспечально:
Я уйду, и с голубых небес
опустится на степь и лес
зеленой мглою лето.
Исповедуюсь и причащусь,
Услышу, как поет младая Русь,
увижу: сон или не сон?
в моем поселье — церковь,
колокольный звон.
Я в белом рубище, босой,
иду с косой в заречные покосы.
Вышептал прощальный стих, теперь бы исповедаться да причаститься, и… но усмешка тронула спеченные жаром, потресканные губы: в моей деревне церковь, колокольный звон? Блажь, прости Господи… Но, приехав в Сосново-Озёрск под потемки и заночевав у школьного приятеля, чуть свет пошел по селу и свернул с каменного тракта на родную улицу, шагнул к черемуховым палисадникам и замер в ошеломляющем диве: будто крашенное луковым пером, пасхальное яйцо, выкатилось солнце из-за таежного хребта, стирая ночной мрак с деревенских изб и озера, и в утренней заре засияла церковь сосновыми венцами, и привиделись пылающие золотом кресты, и послышался пасхальный звон, плывущий над селом, над тихими озерными водами.
Вернувшись в дворницкую камору, почаевав, склонился Иван над рукописью, веером раскинутую на зеленой столешнице — решил все же довести до ума очерк о деревенском музее, но вдруг мучительно задумался над своим писательством: не беса ли тешил, воспев страсти земные, да порой и скабрезно?.. не геена ли огненная и скрежет зубовный поджидают пустобая за безбожное праздное слово?.. Вопрошал Иван небеса, но ответа не слышал.
2009 год
Примечания
1
Косач — тетерев.
2
Тозовка — малокалиберная винтовка.
3
Кока — крестный отец.
4
Божушка — так семейские ласково величали и Господа Иисуса Христа, и сами иконы с Его ликом.
5
Гуран — дикий таежный козел.
6
Зум (бурят.) — сто.
7
Талан (бурят.) — удача.
8
Гаевун — приплющенное воронкой ведро без дна, с прорезанной ручкой; гаевунами били, то есть собирали голубицу.
9
Посолонь — ПО солнцу.
10
Улхусар, Харанор — степные бурятские улусы.
11
«Сучок» — водка низкого качества, которую готовили из древесного спирта, из «сучка»; «белоголовка» — водка в бутылках с белыми пробками,
12
Брачёха — бурятка.
13
Фелон — ленивый, беспечный, недомовитый.
14
Ботало — колокольчик, который вешали на коров, чтобы легче вечером искать в лесных лугах.
15
Карымы (гураны) — так звали забайкальцев, чернявых, скуластых, в роду которых были и буряты, и эвенки.