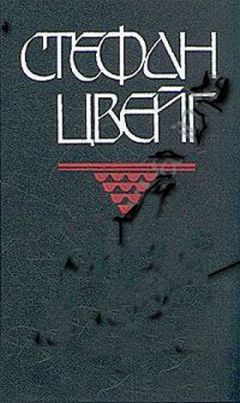Джеймс Джойс - Дублинцы (сборник)
Поутру рано они отправились из кафе Ньюкома, где чашка в руке мистера Дедала очень слышно звякала об его блюдце, а Стивен, двигая стулом и покашливая, старался всячески заглушить это звяканье, постыдный след вчерашней попойки. Одно унижение следовало за другим: фальшивые улыбки торговцев на рынке, глазки и пируэты буфетчиц, с которыми любезничал мистер Дедал, комплименты и похвалы отцовских друзей. Они говорили ему, что он очень похож на своего деда, и мистер Дедал соглашался, что да, тут есть некое уродливое сходство. Они открывали следы коркского выговора в его речи и заставили его признать, что река Ли куда красивей, чем Лиффи. Один из них, чтобы проверить его латынь, заставил перевести несколько фраз из «Дилектуса»[90] и спросил, как надо правильно говорить: Tempora mutantur nos et mutamur in illis, или же Tempora mutantur et nos mutamur in illis[91]. Другой, юркий старикашка, которого мистер Дедал называл Джонни Казначей, привел его в полное замешательство, спросив, где девушки красивее, в Дублине или в Корке.
– Он не из того теста, – сказал мистер Дедал. – Оставь в покое его. Он парень серьезный и рассудительный, у него голова не для такой ерунды.
– Тогда, значит, он не сын своего отца, – сказал старикашка.
– Вот это я уж, право, не знаю, – сказал мистер Дедал, самодовольно улыбаясь.
– Твой отец, – сказал старикашка Стивену, – был в свое время первейший ухажер в Корке. Ты этого не знал?
Стивен, опустив глаза, разглядывал кафельный пол очередного бара, куда их занесло.
– Послушай, не дури ему голову, – сказал мистер Дедал. – Предоставь уж его Творцу.
– Зачем же мне дурить ему голову? Я ему в дедушки гожусь. Я ведь и в самом деле дедушка, – сказал Стивену старикашка. – А ты не знал?
– Нет, – сказал Стивен.
– Ну как же, – продолжал старикашка. – У меня двое внучат-карапузов в Сандиз-Уэлле. А что? По-твоему, сколько мне лет? Ведь я твоего дедушку помню, еще когда он в красном камзоле ездил на псовую охоту. Тебя тогда и на свете не было.
– Да и никто не думал, что будет, – сказал мистер Дедал.
– Как же! – повторил старикашка. – Да больше того, я даже твоего прадеда помню, старого Джона Стивена Дедала. Отчаянный был задира. Ну как? Вот это вам память!
– Выходит, три поколения, – сказал один из компании, – да нет, четыре. Так тебе, Джонни Казначей, глядишь, скоро сто стукнет.
– Скажу вам чистую правду, – отвечал старикашка. – Мне ровно двадцать семь.
– Верно, Джонни, – сказал мистер Дедал. – Нам столько лет, на сколько мы себя чувствуем. И давайте прикончим что тут еще осталось, да начнем другую. Эй! Тим, Том, или как там тебя зовут, подай-ка нам такого же еще одну. Да я и сам, ей-ей, себя чувствую на восемнадцать. Вот он тут, сын мой, больше чем вдвое меня моложе, а я вам в любой момент его перещеголяю.
– Полегче, Дедал, пора уж тебе ему уступить, пожалуй, – сказал тот, который говорил до этого.
– Ну нет, черт возьми! – вскричал мистер Дедал. – Я партию тенора спою получше его, и барьер возьму получше, или погонял-ка бы он со мной на лисьей травле, как я, бывало, лет тридцать тому назад с парнем из Керри, первейшим молодцом в этом деле.
– Но он тебя побьет вот в чем, – сказал старикашка, постучав себя по лбу, и осушил стакан.
– Надеюсь, он будет таким же порядочным человеком, как его отец, вот все, что я могу сказать, – ответил мистер Дедал.
– Раз уж будет, так будет, – сказал старикашка.
– И поблагодарим Бога, Джонни, – сказал мистер Дедал, – за то, что мы жили долго, а зла сделали мало.
– А добра много делали, Саймон, – заключил торжественно старикашка. – Возблагодарим Бога, что жили долго и делали много добра.
Стивен смотрел, как поднялись три стакана, и отец и два его старых друга почтили память своего прошлого. Целая бездна отделяла его от них, бездна судьбы или характера. Казалось, ум его был старше: он холодно светил над их спорами, радостями и огорчениями, словно луна над более юной землей. Ни жизнь, ни молодость не бурлили в нем так, как они бурлили в них. Он не изведал ни удовольствий дружеского общения, ни чувства грубого мужского здоровья, ни сыновнего обожания. Ничто не бурлило в его душе, кроме холодной, жесткой, безлюбой похоти. Его детство умерло или затерялось, а с ним и его душа, способная на простые радости, и он скитался по жизни, как блеклая скорлупа луны.
Ты не устала ли? Твой бледен лик, луна.
Взбираясь ввысь, на землю ты глядишь
И странствуешь одна…
Он повторял про себя строки фрагмента Шелли. Соположение в нем печальной человеческой немощности и необъятных нечеловеческих циклов активности обдало его холодом, и он забыл свои собственные человеческие и немощные скорби.
* * *Мать Стивена, его брат и один из двоюродных братьев остались дожидаться на углу тихой Фостер-плейс, а сам Стивен с отцом поднялись по ступеням и пошли вдоль колоннады, где расхаживал часовой-шотландец. Когда они вошли в просторный холл и стали у окошка кассы, Стивен вынул свои чеки на имя директора Ирландского банка, один на тридцать, другой на три фунта; и обе суммы, его наградную стипендию и премию за письменную работу, кассир быстро отсчитал банкнотами и звонкой монетой. С притворным спокойствием он рассовал их по карманам и покорно вынес, как приветливый кассир, с которым отец разговорился, пожал ему руку, протянув свою через широкий барьер, и произнес пожелания блестящего будущего. Он с нетерпением слушал их голоса, ему не стоялось уже на месте. Но кассир, задерживая других клиентов, все толковал, что сейчас уже не такое время и самое теперь важное это дать сыну наилучшее образование, чего бы оно ни стоило. Мистер Дедал медлил покидать холл, оглядывая и стены его, и потолок и объясняя Стивену, который дергал его идти, что они тут стоят в палате общин старого Ирландского парламента.
– Господи! – благоговейно говорил он, – ты только подумай, Стивен, какие люди были в те времена – Хили-Хатчинсон, Флуд, Генри Граттан, Чарльз Кендал Буш! А те дворянчики, что заправляют теперь, вожди ирландского народа в стране и за рубежом. Боже милостивый, да их рядом с теми даже на кладбище представить нельзя. Нет уж, брат, насчет них это как в песенке поется, был майский день в июльский полдень.
Пронзительный октябрьский ветер свистал вокруг банка. У троих, дожидавшихся на краю грязного тротуара, посинели щеки и слезились глаза. Стивен заметил, как легко одета мать, и вспомнил, что несколько дней назад видел в витрине у Барнардо накидку за двадцать гиней.
– Ну вот, получили, – сказал мистер Дедал.
– Неплохо бы пойти пообедать, – сказал Стивен. – Только куда?
– Пообедать? – сказал мистер Дедал. – Ну что ж, пожалуй, что и неплохо.
– Только куда-нибудь, где не очень дорого, – сказала миссис Дедал.
– К Недожаренному?
– Да, куда-нибудь, где потише.
– Идемте, – сказал Стивен нетерпеливо. – Пускай дорого, неважно.
Он шел впереди них мелкой нервной походкой и улыбался. Они старались не отставать и улыбались тоже, его одержимости.
– Спокойствие, парень, – сказал отец. – Мы же не выступаем в забеге, правда?
Пришла быстролетная пора веселого житья, когда наградные деньги живо утекали у Стивена между пальцев. Из города доставляли на дом большие пакеты с провизией, деликатесами, сушеными фруктами. Каждый день он составлял меню для всего семейства, а каждый вечер возглавлял поход в театр втроем или вчетвером, смотреть «Ингомара» или «Даму из Лиона». В карманах куртки у него бывали припасены плитки венского шоколада для приглашенных, а брючные карманы отдувались от множества серебра и меди. Он всем покупал подарки, взялся отделывать заново свою комнату, сочинял какие-то проекты, бесконечно переставлял книги на полках, изучал всевозможные прейскуранты, измыслил некий род домашнего государства, в котором каждому члену семьи вменялись определенные обязанности. Открыл ссудную кассу для домашних и убеждал всех желающих брать ссуды лишь ради удовольствия выписывать им квитанции и подсчитывать проценты на выданные суммы. Когда он исчерпал все идеи, он стал кататься по городу на трамваях. Потом поре развлечений пришел конец. Розовая эмалевая краска в жестянке высохла, деревянная обшивка в его комнате осталась недокрашенной, и плохо приставшая штукатурка осыпалась.
Семья вернулась к обычному образу жизни. У матери не было уже больше поводов его упрекать за мотовство. Он тоже вернулся к прежней школьной жизни, а все его нововведения потерпели крах. Государство пало, ссудная касса закрылась с большим дефицитом, и правила жизни, которые он установил для себя, были преданы забвению.
Какая это была нелепая затея! Плотиной порядка и изящества он силился преградить грязный накат внешней жизни, а правильным поведением, бурной деятельностью, обновленными узами родства – обуздать мощные настойчивые накаты жизни внутренней. Тщетно. Как извне, так и изнутри поток перехлестнул через возводимые преграды: оба наката снова неистово столкнулись над обрушившимся молом.