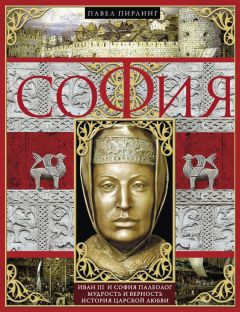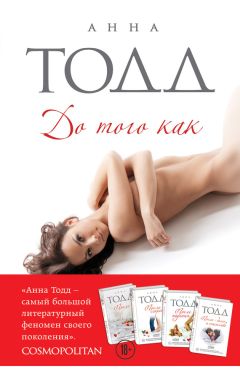Владислав Вишневский - Кирза и лира
— Ты давно пришел? Не замёрз?
Какие красивые у нее глаза, какие ресницы. Румянец, радостная улыбка… Голос… колокольчиком! Люба! Моя Любушка!
— Конечно, давно жду, то есть только что…
На голове серый пуховый платок. Пальто с мягким меховым воротничком красиво повторяет её стройную девичью фигурку. Черные, иногда белые (они красивые, но холоднее черных!) аккуратные валеночки. На руках мягкие кроличьи варежки. Очень теплые, я в них тоже часто грелся.
— А ты опять в холодных ботинках! Почему не в валенках? — ужасается она моей беспечности и сердится на меня за это. А я счастлив, я на седьмом небе от того, как она обо мне заботится, как она сердится, как жалеет меня…
— К-какие ботинки? А, б-ботинки… Да нет, они не холодные, что ты, они т-теплые…
Я таю от её заботы, нежности и любви к ней. Опять даю моей Любушке очередное обещание — вечером приходить к ней только в валенках. Только!.. Хотя точно знаю, что никогда, ни при каких обстоятельствах не приду к ней, к моей Любушке, на свидание в каких-то там прозаических валенках. И мы, взявшись за руки, идем гулять. Любушка сразу же берется отогревать мои холодные, окоченевшие пальцы в своей жаркой варежке или согревает своим дыханием… Мы долго-долго стоим близко-близко.
Маршрут мы всегда выбирали самый дальний.
Поселок Могоча мне нравился тем, что он был далеко растянут как вдоль железнодорожной линии, так и вглубь от нее. Длинные улицы и переулки разделяли усадьбы с их домами-избами, дворами, палисадниками, большими огородами, сараями и, конечно же, собаками с соответствующими табличками на калитках дворов «Осторожно, злая собака!». Можно было долго-долго ходить, гулять, обнявшись, по этим длинным и тёмным улицам и переулкам. Что мы и делали.
Крупная узловая станция и большой поселок были известны какими-то ужасными преступлениями, пьянками, даже убийствами. Вечерами, после семи, на улицах всегда было пусто. Многие хозяева на ночь спускали с цепей своих огромных собак-волкодавов — размяться. Они, счастливые от нагрянувшей свободы, бегали, дурашки, рыча, лая и тявкая, разнокалиберными стаями и просто поодиночке, по всем этим пустынным и холодным улицам. Своим присутствием мы эти стада, конечно же, развлекали. Но я достойно защищал свою любимую и ничего не боялся. Собаки, наверное, понимали это и нас не трогали.
Я действительно кроме Любы никого не видел и ничего не замечал. Мы с ней много говорили о звездах, пересказывали друг другу содержание интересных книжек, кинофильмов, рассказывали всякие смешные истории и свои переживания, рассказывали о планах на будущее, фантазировали. Слушали друг друга. Мечтали. Иногда, когда были деньги, да и без денег тоже, ходили в кино. Целовались и на улице, и в тёмном зале… Люба!!
Сейчас, здесь в вагоне, с особой остротой и болью всё опять вспомнилось, опять нахлынуло!.. Я и сейчас очень ярко помню прикосновение её нежных губ… Помню её необыкновенные глаза. Ласковый и нежный её голос, её руки, легкое дыхание и губы… Лю-юбушка, моя Любушка!..
Правда, в начале одиннадцатого вечера, стоя у калитки дома, где моя Любушка жила, я промерзал настолько, что холода не чувствовал вообще и говорить почти не мог. А зимой в Могоче минус сорок — это обычная рабочая температура. Люба в очередной раз заботливо спрашивала меня:
— Ты не сильно замерз?
— К-конечно нет, — еле сдерживая колотившую меня дрожь, бодро отвечал я.
Её мама выходила на крыльцо в домашнем платье, накинув пуховый платок на голову и плечи, и мягко говорила:
— Любушка, пора домой.
Я замирал: сейчас Люба уйдет, уйдёт… Люба, повернувшись к маме, умоляюще просила:
— Мамочка, ну можно ещё немножко? Ещё же не очень поздно, ну, мам!
Мама, укоризненно покачав головой, уходила. И мы, счастливые, взявшись за руки, тепло улыбаясь, отогревали дыханием друг другу руки, нос, щеки. И опять целовались. Нежно-нежно, много-много раз… Потом Люба категорически требовала разрешить ей проводить меня — хотя бы только до виадука. Я был счастлив.
— Конечно, — соглашался я, — если ты не замерзла, и — только до виадука!
Мы шли… А потом — как же она обратно пойдет одна?! Нет, конечно. И теперь уже я её провожал до калитки. Там мы снова целовались, уже почти совсем ледяными губами.
— Завтра мы встретимся здесь, как и сегодня, ладно? — спрашивала у меня Люба. Я, замирая от любви, только кивал головой: конечно. Говорить я уже не мог: колотила ледяная дрожь. Люба, много-много раз оглядываясь, уходила. А я, постояв ещё какое-то время, в счастливо-трагическом оцепенении, вдруг с ужасом вспоминал, что действительно уже очень поздно! Что двери интерната наверное давно закрыты, и меня могут не пустить, я останусь ночевать на улице. Замерзну! Умру… и больше не увижу Любу? Нет! Нет!.. Я несся по пустынным вымерзшим улицам, трясясь от холода, но грезя и мечтая о счастье завтрашней встречи.
Как я жил тогда, что я ел, как я одевался в то время? Не знаю. Да это и не важно. А как мог жить мальчик, который был первый раз в своей жизни влюблен?..
Очень сильно я там промерзал!.. Это я чувствовал только тогда, когда ночью несся по виадуку и дальше на гору, к интернату. Около дверей интерната ноги и руки начинали чуть-чуть гнуться и сильно, до слез, болеть. Время было позднее, и там, у дверей, тоже нужно было еще постоять, достучаться — могли и не открыть. Просто так, из вредности. Там тоже были свои железные принципы и свои железные правила. Открывали мне обычно ребята — когда двери, когда окна. Но я ничего этого не замечал. Хотя уже знал, что мне грозит выселение из интерната. «За нарушение внутреннего распорядка, за неучастие в жизни интерната и школы… за плохое поведение и плохую успеваемость… за…» Там, в школе, один только физрук и был всегда мной доволен. Это меня согревало, да еще моя Люба!
Для меня, в той моей жизни, было только одно плохо — если это как-то лично затрагивало Любу. Я все время слышал, помнил и ждал только её голос, видел только её глаза, только её улыбку, ждал только её… Только это для меня имело значение, и только она целиком занимала всё мое сознание.
И вот, почти через пять лет, я снова в Могоче. В той самой маленькой холодной и любимой Могоче. Наш состав с молодыми призывниками-новобранцами споткнулся, стоит в моей родной и любимой Могоче!
Ааа!..
В школу и к ней ходить нужно было по виадуку, перекинутому над железной дорогой. Виадук был длинный и высокий. Станция большая, прямо скажем, огромная. О ней говорили — узловая. Всяких железнодорожных ответвлений-разветвлений на ней было более двадцати. Станция всегда, в любое время суток была битком забита железнодорожными составами.
Шустрые маневровые без конца с места на место перетасовывали, сдвигая, толкая-передвигая разные вагоны, полувагоны, цистерны, платформы. Как шары-одиночки, один за другим, самостоятельно, кажется, катались с горок, туда-сюда вагоны. Время от времени громко, на всю округу, раскатисто, с эхом, женским распевным голосом хрипели мощные железнодорожные динамики: «Маневро-овый, маневро-овый! 25-ю на 36-ю. 78-ю на 16-й!..»
В ответ через секунду раздавался громкий щелчок динамика и прокатывалось, хрипя грубым мужским голосом: «Гхр-р…нял, 25-ю…грр-хрр… на тр…шестую…хрр…78-ю…»
Я всегда выходил из интерната как можно раньше и, поднявшись на виадук, как на мостик, часто забывал о школе, интернате, какой-то там внеклассной и прочей школьной работе. Меня завораживало это взрослое, кем-то организованное, чётко управляемое, непрерывное железное, дорожное действо. На первый взгляд кажущаяся бессистемная суета — я видел! — всегда имела свое определенное, четкое, кем-то спланированное и разумное логическое разрешение. Днем ли, ночью ли, в любую погоду в нужное время кем-то переключались железнодорожные стрелки. Интересно!.. Строго по расписанию приходили и куда-то уходили составы с грузом. Очень интересно! Сортировались, передвигались, сцеплялись в единую связку нужные сортировщику вагоны. Просто здорово! Сменялись поездные бригады. Приезжали и уезжали суетливые пассажиры. Неутомимо работали бригады осмотрщиков вагонных тележек и колес. Сутулые грузчики перевозили багаж. К вокзалу подъезжали и отъезжали автобусы, такси, другие машины… Фантастика!..
Меня завораживала романтическая сторона событий, усиленная мощными горластыми динамиками, дополненная клубами пара, дыма, светом прожекторов, резкими тревожными гудками, железным лязганьем сцепок, шумом и грохотом прибывающих и отходящих пассажирских поездов, товарных составов, сигналами автомобилей, отдельными выкрики и общим гомоном людской толпы. Всё это — и сильный густой мороз, и грязный снег, окружающие весь этот театр действий, — завораживали и притягивали моё сознание, будили мое романтически настроенное воображение.