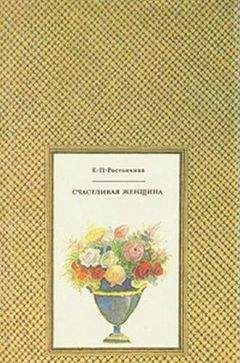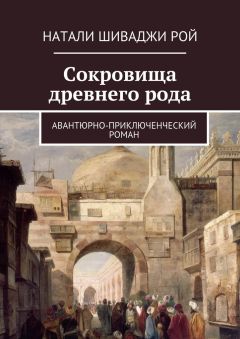Анатолий Байбородин - Озёрное чудо
Когда и старые, и малые одыбали от страха и потихоньку стали забываться в широкой песне, какую пел Емеля под гармонь, Снегурочка стала просить детей:
— Миленькие вы мои, родненькие… — всхлипывала она, — покличем Деда Мороза, аукнем. Какая елка без Мороза Ивановича?!
После дружного зова… Емеля-дурачок опять шептал… вдруг, словно лопнула бумажная хлопушка, и Дед Мороз, живой, невредимый, выбрался из синеватого тумана. Дети ожили от страха и повеселели, лишь Матрёшка ревела в голос, чтобы черный ворон снова превратился в дядю Аверьяна. Дед Мороз кинулся утешать ее и посулил, что дядя Аверьян станет человеком и будет жить в яслях завхозом. Хотя и посомневался, что Аверьян Вороноф станет человеком.
* * *С той лихой елки и повелось: лишь в детских яслях заиграет цветастыми всполохами рождественская ёлка, тут же с каменистых отрогов Баргузин-хребта слетает ворон, чёрный, как печная головешка, со зловещим синим отливом. Кружит над яслями, злодеюшко, кружит, а потом вцепится когтями в резной карниз и долбит клювом в стеклину, заросшую снежным куржаком. Выдолбит каркун полынью, глянет злым смолёвым оком и раскатисто каркает:
— Каррр! Каррр! Каррр!.. Дуррраки рррусские!.. Допррры-гаетесь…
Рождественская елка… везде пляшут, а в Березовой гриве плачут, а ворон пуще ярится:
— Каррр! Каррр! Каррр!.. Покаррраю… всех скррраю..
«И покарает, накаркает беду…» — спохватились баргузинские соболятники и медвежатники и стали каркуна истреблять: палили из берданы дробью и картечью, солью и горохом, ставили волосяные силки, травили грузинским спиртом — должен бы махом когти отбросить, сколь уж деревенских мужиков от него перемерло… и заморской жвачкой потчевали — думали, слипнется — все беспроку, никакая холера ворона не берет.
— Эх, не было печали, черти накачали, — опять же на рождественской елке горевала Снегурочка, ставшая богоданной женой Деду Морозу. — Хоть бы уж помер скорей…
Но Дед Мороз усмешливо покачал головой:
— Ага, держи карман шире… вороны по триста лет живут, а которые с нежитью покумились, те, моя бравая, вечно.
Баба-яга пояснила:
— Они же, парни-девки, кормятся падалью, вот и живут по триста лет. Хитрые, приспособились. Вот бы нашему народу эдак…
Бродили слухи в Кедровой Пади — похоже, Кеша Чебунин распустил — хлопуша же, враль — что Баба-яга отписала Кощею, что в Кремле атаманил, и присоветовала кормить русских падалью: проживут триста лет, и у Кощея не будет печали, чем народ кормить, коль все народное добро евойные шарамыги украли и за бугор угнали. Баяли, что Кощей Бабу-ягу в советчицы взял, и кремлевскую фатеру обещал. Ну да в Кедровой Пади соврут, недорого возьмут.
Емеля-дурачок искоса глянул на Бабу-ягу и покрутил пальцем у виска:
— Тебя, Баба-яга, пыльным мешком из-за угла не били?
— Но-но, потише ты, дебил.
— Не, я не дебил, а вот ты… ты или дура набитая, или тебя Аве-рьян подучил… Старухи судачат, по ночам летаешь с им на Лысу гору. А там свет гасите, и кто кого догонит…
— А тебе завидно? — Баба-яга игриво повела плечами.
— Завидно?! Я на кости не кидаюсь, не собака, — сочувственно глянув на высохшую Бабу-ягу, грубовато отозвался Емеля. — Так вот, ты, дура, соображаешь своим куриным умишком: ежели мы будем падалью питаться, мы же в черных воронов обратимся. А на кой ляд мне вороном триста лет каркать. Мне и так ладно…
— Тоже верно… — призадумалась Баба-яга.
— А с этим вороном мы справимся. Вот силёнок наберём и… сразимся.
Дед Мороз сомнительно покачал головой:
— Его нахрапом, Емеля, не возьмешь, пуп порвешь. Его не пестом, а крестом, да со Христом одолеть можно.
Но худобожии кедровопадьцы о ту пору еще лениво Христу поклонялись, редко ко Божьему кресту прислонялись, а медвежатники да соболятники те и вовсе зиму в тайге шатались, зверя промышляли, в бане месяцами не парились, пню горелому кланялись. Страдать бы и страдать народу из Кедровой Пади, да опять Емеля спас…вот те и дуралей!., привез сурового отца Силуяна из баргузинского села, где ожила церковь Святого Егория.
Кеша Чебунин, рьяный партиец, хотел было на старом конном дворе собрать маевку, растолмачить дуракам, что Бога нету, есть Ленин, Маркс и Энгельс, но дураки не пошли Кешу-хлопушу слушать, а стали отца Силуяна выглядывать: не едет ли. Поторчал Кеша на конном дворе на пару с Марксом — портретом укрывался от байкальского ветра — замерз, да и пошел похмеляться. Тут мужика и прихватила баба с малым чадом, которые уже вызубрили «Символ веры» и наладились креститься у отца Силуяна в байкальском плесе. Буром пошла Тося на мужика:
— Не пойдешь с нами креститься, зюза подзаборная, — вот те Бог, вот те порог. Дуй из Кедровой Пади, куда твои шары бесты-жие глядят. Чтоб ни слуху ни духу… И деды наши, и прадеды — без Бога ни до порога, и мы с имя. Так что, думай, Кеша: кто тебе родней: Бог или Карл Маркс?.. Может, батюшка и от пьянки бы тебя отмолил…
В последние лихие времена стал Кеша Чебунин исподтишка сомневаться в Карле Марксе, а пуще того — в Ильиче, подле которого кружила нерусь, вроде Аверьяна, что обратился вороном; кружила та нехристь, измывалась над русским народишком, пока Сталин не помел поганой метлой. Кеша даже сочинил отчаянный стих, который читал одышливым шепотом, по-заячьи стреляя юркими глазами:
Хоть матушку-репку вой,
або в прорубь вниз головой —
вижу в ящике «голубом» инородца,
денно и нощно над Русью смеётся.
Рвет ее душу и мрачно кружит
словно ворон зловещий жид.
Но когда же, братья, когда
открестится Русь от жида?..
Шибче аверьяновой сивухи пробрал Кешу своеручный стих, слезы текли по седой щетине: однако уж второй век кружит, и никакого сладу. Как при Ильиче взмыл над Рассеюшкой, так и кружит… Э-эх, чо деется на белом свете!.. Крепко призадумался Кеша: может, оно, баба и права?.. Может, с попом потолковать: как бы эдак уладить в Кедровой Пади да и во всей державушке, чтобы с Богом жить и с коммунизмом… но без воронов клятых?..
А в Кедровой Пади — праздник вроде престольного крещенье всенародное. Батюшка перво-наперво окрестил кедровопадьцев в байкальской волне, а народ, запуганный вороном, всей деревней привалил, и малых чад на руках принес: потом батюшка освятил детские ясли, да еще и прошел крестным ходом с присмиревшим народом. Злобно кружился, ярым вихрем вился ворон над крещеной деревушкой, а тут…Емеля-дурачок своими глазами видал… вдруг с небес на белом коне спустился Егорий Храбрый, полымем пролетел над тайгой и поразил огненным копием черного ворона.
Тут бы и сказу копец, но кедропадьский кабатчик, бывший напарник Аверьяна, позаочь величаемый Зеленый Змей Горы-ныч, восхотел, чтобы поп — в кои-то веки завернул в глухомор-ную деревеньку — освятил и пьяный кабак: дескать, озолочу, но батюшка уперся: мол, я поп старорежимный, еще при Сталине служил, не совремённый, ваши притоны освящать не буду… ни за какие шишы. Тут еще Тося, жена Кеши Чубунина да бабы других кабацких ярыжек загалдели хором: мол, спалят бесову корчму вместе с Зеленым Змеем, а заодно и все дворы, где торгуют аверьяновой гиблой сивухой.
После байкальского крещения вырешили кедровопадьские мужики: церкву рубить, а Степану Андриевскому в той церкве старостой быть, и Емелю держать при себе для смирения. «Мне бы, братцы, на паперть в христорадники» — возжелал Емеля. Минуло год, осветилась златовенцовая, кедровая церква, и стал батюшка чаще в Кедровой Пади гостить, службу служить, и зажила деревенька в былой тиши, но Емеля вздохнул принародно: дескать, вы что же думаете, пеньки баргузинские, бурундуки кедровые?! Вы думаете, Аверьян одинешенек на белом свете?! 06-радели… Да их, воронов, тьма-тьмущая! И посреди нас… Долго ли в ворона обратиться, ежли Богу не молиться.
Конец XX века — сентябрь 2006
ДВОРНИК. СКАЗ О ЗАХОЛУСТНОМ ПИСАТЕЛЕ
Всплыло солнце над байкальским хребтом, над сумеречным чернолесьем, домовито, с хозяйским прищуром оглядело землю: серебристо играет чешуйчатая рябь на ангарской стремнине, тает густо-зеленая, лешачья тень под высоким становым берегом, теплеет рыжий суглинистый яр, издырявленный норами, откуда выпархивают, заполошно снуют по-над самой рекой стрижи, и, ухватив мошку либо зоревого комара, ныряют в дуплица, кормят прожорливых чад; просыпается скошенный луг на яру с гладко очесанным зародом сена, оживает прибрежная деревня-малодворка с вековечными седыми избами, матерыми амбарами, «черными» банями, ладными завознями, сеновалами, людскими и скотными дворами.
Взошло красно солнышко из таежного хребта и обмерло, словно румяная со сна, щекастая молодуха, провожая в поле буренку, вдруг сомлела у поскотинных ворот, блаженно и бездумно отпахнув глаза, омытые ключевой водой до небесной синевы: Божуш-ко ты мой милостивый, экое райское диво разлилось по утренней земле.