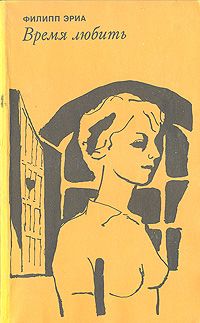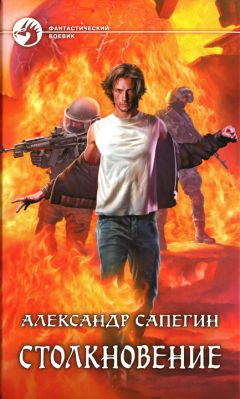Филипп Эриа - Семья Буссардель
Амори обрадовался отсрочке, которую могла ему дать картина, задуманная отцом; он согласен был провозгласить любую женщину Еленой Фурман, согласен был писать прифрантившуюся кормилицу "в венце" с голубыми рюшами, в платье из переливчатой голубовато-серой тафты и в белом переднике. Он выражал энтузиазм,
- Я пошлю эту картину на выставку! Мы назовем ее "Счастливая кормилица".
Он не упускал ни малейшего случая поддержать свое звание художника. Учетный банк, с которым была связана контора Буссарделя, вел в это время переговоры о покупке театра Вентадур, намереваясь перестроить его и перевести туда свою резиденцию: подчиняясь духу времени, Итальянский театр уступал место крупному банку. В инвентарной описи, составленной владельцем знаменитой театральной залы, фигурировали и скульптура и внутренняя роспись; стоимость их упоминалась в качестве одного из обоснований назначенной продажной цены; у покупателей встал вопрос, какую рыночную ценность имели в действительности эти украшения; как-то раз за обедом Фердинанд Буссардель рассказал об этом, и Амори с готовностью предложил свои услуги в качестве эксперта, сказав, что он может пойти и посмотреть эти произведения искусства.
- Прекрасно, - ответил отец. - Я возьму тебя с собой на ближайшее собрание, оно состоится в помещении театра.
И вот однажды утром в зале Вентадур состоялось странное совещание биржевиков и банковских дельцов, к которым присоединился и Амори, - то была последняя вспышка его угасающей звезды художника.
С полдюжины финансистов, не снимая цилиндров, сидели, затерявшись в середине партера, в полумраке, который окутывает помещения, оживающие лишь по ночам, и обводили взглядом белый с золотом зал, где блистали Альбони и Крювелли, где еще трепетали отзвуки прощания Патти, где когда-то производил фурор Тамберлик. Выставляя указующий перст, они решительными жестами разделяли, распределяли, перегораживали обширное помещение, овеянное дыханием искусства и славы, планировали, где поставить несгораемые шкафы, где устроить центральный холл, где разместить различные отделы, где будет зал заседаний.
- Отец, - сказал Амори маклеру, сидевшему несколько в стороне, - я поднимался на галерку, рассматривал плафон. Мазня! И пятисот франков не стоит.
- Неважно! Говорят, Учетный банк сохранит только коробку здания.
В следующем году Амори послал "Счастливую кормилицу" "а выставку. И хотя на его полотне собрано было все то, что могло понравиться жюри и даже польстить ему, так как отдельные детали картины как будто были списаны у некоторых членов жюри, никакой наградой плоды такого благонамеренного усердия не были увенчаны.
Когда выставка закрылась, картину вернули на авеню Ван-Дейка, но Буссардель старший отнюдь не удостоил ее чести включить в картинную галерею, собранную в нижнем этаже, где Фландрен и Кабанель соседствовали с первоклассными произведениями, оказавшимися в доме благодаря Теодорине, которая их покупала или получала в наследство. Тогда Амели потребовала картину для своих комнат: она это сделала из сострадания к обиженному художнику, а также потому, что ей очень нравилась "Счастливая кормилица". В вопросах искусства она была почти так же невежественна, как ее свекор, и воображала, что лучших портретов ее детей и быть не может. Манера письма художника Амори Буссарделя, передающая внешнее сходство, но безличная, плоская, мертвая, нисколько ее не коробила.
Викторен по-прежнему игнорировал Аглаю, эпизод с обезумевшей лошадью и последствия этого происшествия не изменили его отношения к ней. Тем временем вернулся Дюбо и снова занял должность камердинера Викторена. С тех пор как уехала жена, а хозяин перестал выпрашивать отпуск для него, он страшно скучал в Лилле и в конце концов, выставив какие-то сложные семейные причины, добился увольнения из армии.
Он увидел наконец жену, вернулся в свою комнату, которую Аглая превратила в уютнейший уголок, где все блистало чистотой и ласкало взгляд, но его надежды зажить прежней супружеской жизнью были обмануты. Аглая так привязалась к хозяевам, что перенесла на них все нежные чувства, которые раньше отдавала мужу. Хоть у нее теперь были помощницы, две бонны (из коих одна спала на детской половине; другая - родом из Люксембурга - уже обучала Теодора немецкому языку), Аглаю все больше поглощали ее обязанности; старшие дети, подрастая, не выходили полностью из-под ее власти, и обе бонны должны были следовать ее указаниям - это им объявила хозяйка в качестве непререкаемого правила.
- Аглая, - говорила им она, - имеет над вами все преимущества: она давно служит в доме, больше вашего знает, с опасностью для собственной жизни доказала свою преданность нам.
При малейшей простуде у детей Аглая проводила ночи возле них, в кресле. То ли Дюбо было обидно оставаться тогда одному в супружеской спальне, то ли вспомнились ему прежние удовольствия, которые с возвращением в Париж сделались для него опять доступны, но только он стал по вечерам пропадать из дому. Быть может, он признался в этом хозяину, а может быть, тот встретил его в одном из их прежних излюбленных злачных мест или же сам догадался о его настроении благодаря особому чутью распутников, которые обычно нуждаются друг в друге, - как бы там ни было, а они снова сблизились.
Но прежние приятельские отношения не возродились. Хозяин помнил измену, и это смущало лакея; в их тайных совместных вылазках не было прежней непосредственности и веселья, они были короткими, совсем не частыми, а на другой день о них и речи не было. Прошло то славное время, когда даже в господских покоях, даже в интимной обстановке туалетной комнаты, приказав растирать себя волосяной щеткой, хозяин продолжал фамильярничать с камердинером, хвалясь вчерашними подвигами или заранее расписывая наслаждения предстоящей ночи.
Пробудившись от дремоты чувств, в которой Дюбо отбывал военную службу, этот молодой парень - ему было всего двадцать три года, - по-видимому, весьма сожалел о прежних удовольствиях и нередко смотрел на хозяина сокрушенным взглядом; но Викторен как будто не понимал его. Не зная уж, как опять войти к хозяину в милость, лакей поручился, что Аглая совершенно стушуется и будет держать язык за зубами; и таким образом на авеню Ван-Дейка старший сын Буссарделя, пользуясь безмолвным сообщничеством отца и младшего брата, уверенный в услужливости Дюбо и в молчании его супруги, совершенно равнодушный к тому, что могли о нем думать остальные слуги, которых он глубоко презирал, только ради жены скрывал свои похождения, да и то проявлял тут очень мало осторожности, зная, что Амели поглощена обязанностями матери семейства и хозяйки дома и к тому же страдает слепотой, которую небо ниспосылает женам.
Как-то раз, в третьем часу утра хозяин и лакей вместе вернулись домой, и Викторен прошел, как он это обычно делал по ночам, через черный ход, со двора.
На площадке второго этажа Дюбо передал ему подсвечник с зажженной свечой.
- Прикажете раздеть вас?
- Не надо, - пробурчал Викторен с угрюмым видом, какой у него нередко бывал после кутежа.
И он направился в свои покои, ничего не ответив лакею, пожелавшему ему приятных снов. Добравшись до туалетной комнаты, он разделся, разбросав по своему обыкновению одежду куда попало. Он никогда не следил ни за своими вещами, ни за своей особой, и если заставлял Дюбо растирать его, то лишь для того, чтобы чувствовать себя гибким в фехтовальном зале или при верховой езде. Но чистоплотности у него было еще меньше, чем у других мужчин в его семье, в его кругу и в его время.
Оставшись в фланелевой фуфайке, он в виде исключения на этот раз оглядел себя и, чтобы лучше было видно, зажег стенную лампу, укрепленную над туалетным столиком. С некоторого времени его беспокоил зуд в очень неудобном месте.
При холодном свете газового рожка он разглядел насекомых - виновников этой неприятности. Уже не в первый раз ему случалось приносить их на себе, но в этот вечер их оказалось так много, что к его дурному настроению прибавилось еще и чувство отвращения. "Дюбо избавит меня от этой гадости", подумал он.
Позвонить в такой час было невозможно! он накинул халат и прошел через весь дом, объятый сном.
- Дюбо! - вполголоса позвал он, остановившись у дверей его спальни. Отвори, ты мне нужен.
- Сейчас, сударь.
Босые ноги зашлепали по полу; дверь отворилась, на пороге появился Дюбо в ночном одеянии, но хозяин тыльной стороной руки отодвинул его.
В глубине комнаты, в алькове, на постели, освещенной сбоку свечой, стоявшей на ночном столике, спала женщина. Обнаженная рука ее была закинута за голову, и Викторен видел, как блестят у нее под мышкой золотистые завитки волос.
Заметив застывшую позу и взгляд ночного посетителя, Дюбо повернулся и, подойдя к кровати, поправил одеяло, которое сам же откинул, соскочив с постели, так, что видны были полная нога Аглаи и линия могучего бедра, обтянутого ночной сорочкой.