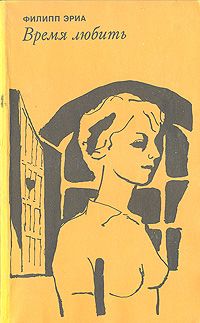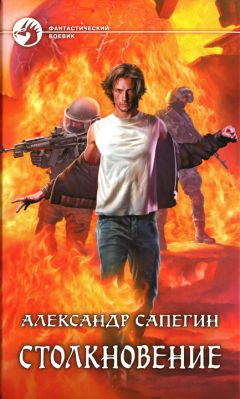Филипп Эриа - Семья Буссардель
XXV
Амели увидела своих детей у ворот усадьбы; они ждали ее "на полумесяце". Все трое цвели здоровьем, и, глядя на них, Амели почувствовала себя вознагражденной за пережитые минуты. Она схватила детей в объятия; выпустив одного, обнимала другого, потом опять первого, и ей хотелось сказать им на ушко: "Вы теперь богаты, я для вас раздобыла большое состояние, и вы ни с кем не обязаны делиться".
- Я возьму их в коляску, довезу до дома, - сказала она двум нянюшкам, которые привели детей.
Младшего сынишку она взяла на колени; коляска въехала в ворота.
- А почему же няня не пришла?
- У нее нога болит, - покраснев, ответил Теодор,
- А все Теодор виноват! - крикнула Эмма.
- Тебя кто спрашивает, маленькая доносчица? - сказала мать и обратилась к кучеру: - Что случилось, Жермен?
- Лошадь копытом ее ударила,
- Никаких переломов нет?
- Нет.
- Ну, слава богу!.. Это главное. Что ж это такое? - сказала она детям. - Стоит мне отлучиться из дому, и вы сейчас же начинаете делать глупости!
- Да мама же... - захныкали двое старших,
- Помолчите! Я и без вас узнаю, что тут произошло. А тебе, милая дочка, я раз и навсегда запрещаю выскакивать со своими неуместными замечаниями и, главное, не смей ябедничать на брата, что очень, очень нехорошо!
Она заставила детей умолкнуть, и под ее властным взором они до самого дома сидели тихонько. Но со стороны Амели это было чистейшее притворство: сердце ее переполняла радость от того, что она вновь видит этих шалунов. Она обожала своих детей, любила их всех одинаково, без материнской слепоты, без баловства. Строгая, требовательная к себе самой, она была такой же и с другими. Слуги говорили о ней: "Взыскательная барыня", а дети - "У нас мама сердитая". Она и в самом деле была сторонницей твердости в воспитании, полагая, что суровость закаляет характер и отлично его формирует. Она забыла, как страдала сама в детстве, не видя от матери ласки, не встречая в ней понимания; впрочем, она-то полна была нежной любви к своим детям, но проявляла ее только в самоотверженных заботах о них, в неусыпной бдительности, в неустанном внимании к ним. Будучи замкнутой по натуре, все переживая внутри себя, она боялась внешних проявлений чувствительности, тем более что стала матерью уже не в годы наивной юности.
Что до понимания, то она прекрасно понимала своих детей, - у них уже сказывались природные наклонности, во всяком случае у двух старших. У Теодора, так же как у отца, были большие способности ко всяким физическим упражнениям, он мечтал о лошадях и об охоте; в это лето ему исполнилось семь лет, то есть он уже вошел в разум, и ему дали в руки маленький детский карабин и стали учить его стрелять; Эмма, наоборот, была внимательная, усидчивая девочка, очень любила слушать разговоры взрослых, охотно злорадствовала над чужой бедой: для нее было большим удовольствием подметить чью-либо провинность; когда ее брат или кузены совершали какой-нибудь промах, проливали что-нибудь на скатерть, она вертелась и весело хохотала, радуясь их проступку и стараясь обратить на него внимание окружающих. Дедушка часто называл ее в шутку злючка-колючка. Она очень уважала свою двоюродную бабку - тетю Лилину, и влияние старой девы явно сказывалось на ней, хотя и умерялось отсутствием у Эммы врожденной хитрости. В этой семье повторялись типические черты характера, передававшиеся не только от матери к дочери и от отца к сыну, но и от тетки к племяннице, от тестя к зятю, и, казалось даже, что эти свойства не столько наследуются, сколько воспринимаются путем воспитания или подражания живому примеру.
Чувство Амели к дочери не ослабевало из-за недостатков Эммы: мать хорошо их видела, но надеялась, что воспитание исправит девочку. Госпожа Буссардель не принадлежала к числу тех матерей, которые любят своих детей за то, что они красивые или одаренные, или ласковые дети, - она любила своих малышей глубокой и постоянной любовью, потому что они были ее родные дети.
Амели пошла навестить Аглаю и увидела, что у нее зияющая рана выше колена. Нагноения, казалось, не было, но вокруг виднелись большие кровоподтеки, они чернели и на самом бедре. Госпожа Буссардель тотчас же велела запрячь лошадь и ехать в Сансер за доктором.
- Да что вы! Такие пустяки, - говорила Аглая, - не тревожьтесь вы из-за меня, пожалуйста. Я уже делала себе свинцовую примочку.
- Свинцовую примочку? Вы подумайте хорошенько, ведь вон куда лошадь копытом ударила! У вас, может быть, повреждены внутренние органы! Тогда уж никакие свинцовые примочки не помогут! А как это случилось?
- Я сама во всем виновата, сударыня. Конюх вывел Урагана на проводку, а я зазевалась и как-то вот попала под копыта.
Ураганом звали чистокровного арабского скакуна, очень норовистого молодого коня, с которым умел справляться только Викторен. И Амели, особенно когда она вспомнила восклицание Эммы, разгадала тайну, но, чтобы не расстраивать больную, не стала ее расспрашивать. Ничего не спросила она и у других слуг, не желая подвергать пересудам людской эту няню-экономку, которую она хотела держать на особом положении. Всю правду о несчастном случае она узнала от Мориссона. Оказалось, что юный Теодор без ведома домашних властей, которым он был подчинен, упросил конюха посадить его на Урагана. Почувствовав, что в седле сидит ребенок, лошадь стала нервничать, взвилась на дыбы, вырвалась от конюха, который вел ее под уздцы, и бешеным галопом помчалась по длинной ореховой аллее под горку, что еще больше увеличивало опасность. В это время там прогуливалась Аглая с Эммой и маленьким Фердинандом. Услышав неистовый топот, она обернулась, поняла опасность, укрыла детей в канаву, приказав им не шевелиться, дождалась, когда лошадь приблизилась, подобрала юбки, бросилась ей наперерез и повисла на узде всей своей тяжестью.
- Прыгай, Теодор! Прыгай!
Мальчика нашли в траве без сознания. А лошадь и женщина свалились на дорогу. Аглаю пришлось унести домой на носилках.
Выслушав рассказ, госпожа Буссардель велела позвать к ней конюха, выдала ему жалованье и тотчас уволила. Теодора на два дня посадили в темный чулан на хлеб и на воду, и мать приказала ему, чтобы он, выйдя из своего карцера, попросил у Аглаи прощения в присутствии всех обитателей усадьбы.
- И все слуги тоже будут? - спросил он, побледнев от унижения.
- Разумеется! - ответила мать. Эмма фыркнула, и за это была оставлена без сладкого - подул ветер возмездия.
После этого Амели снова поднялась в мансарду к Аглае.
- Няня, - сказала Амели, входя к ней, - я все знаю. Век буду благодарна вам, и я хочу, чтобы об этом злополучном дне у вас остались на память не только рубцы и шрамы, а кое-что другое. Вот возьмите.
Наклонив голову, она сняла с себя длинную золотую цепочку, на которой висели золотые часы с ее инициалами на крышке, и надела ее на шею Аглаи; та онемела от изумления, потом разрыдалась.
- С этого дня вы член нашей семьи, - сказала госпожа Буссардель; она не могла и представить себе более высокой чести.
Аглая доказала свою благодарность тем, что нисколько не зазналась после этого. Она была все так же терпелива с детьми, все так же старалась помочь в работе другим слугам. Отношения между ней и хозяйкой стали более близкими. Аглая собственноручно принимала у хозяйки четвертого ее ребенка - девочку, которую назвали Луизой.
Но жену Дюбо ждало и публичное признание ее заслуг. Буссардели любили фамильные портреты и постепенно увеличивали количество их в своем доме. Помимо карандашных набросков, сделанных тетей Лилиной, помимо большого полотна кисти Ипполита Фландрена, картинная галерея в особняке на авеню Ван-Дейка прославилась также портретами Фердинанда Буссарделя, где он был изображен уже зрелым мужем, в пору своего преуспеяния, и на этот раз без брата; портрет этот в свое время был заказан Кабанелю для того, чтобы художник был более внимателен к Амори. И вот Амори первый заговорил сначала в шутку - о том, что неплохо было бы написать портрет Аглаи.
- Натура необычайно живописная, - утверждал он. - Ведь это настоящая Елена Фурман. Пусть Амели разрешит ей два-три раза зайти ко мне в мастерскую, на виллу Монсо. Аглая будет мне позировать.
Амели при всей широте своих взглядов сочла это неприличным. Но Буссарделю пришла в голову мысль, что хорошо бы написать еще один фамильный портрет, где кормилица держит на руках новорожденного и ее окружают трое остальных питомцев. Против этого его сноха возражать не стала.
Амори предпочел бы написать картину в более благородном стиле, нарядив и причесав Аглаю в духе фламандских художников, но он поспешил согласиться с отцовским предложением. Он с ужасом видел, что маклер того гляди разочаруется в художественной карьере сына. Похвальный отзыв на выставке 1874 года и столько прекрасных связей в официальном мире искусства не принесли молодому живописцу существенных выгод: государство не покупало его картин, не получал он и заказов на портреты, меж тем лишь такие результаты Фердинанд Буссардель счел бы несомненными доказательствами успеха. Он подумывал о том, что со времени смерти Эдгара прошло семь лет, а традиционная упряжка из братьев Буссарделей все еще не восстановлена; он уже вел с Амори деловые разговоры и упоминал в них как об обстоятельстве само собой разумеющемся, что сын будет ходить в контору и проводить там хотя бы полдня. Словом, надвигался роковой час, когда художнику надлежало подчиниться буссарделевскому укладу.