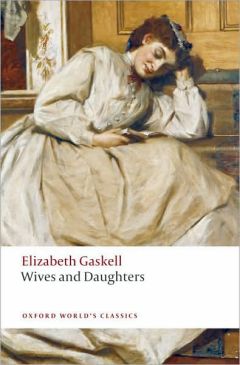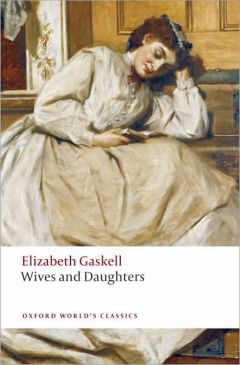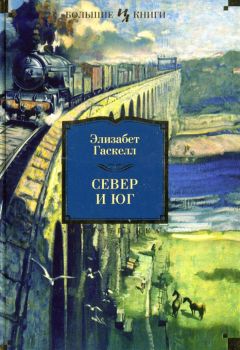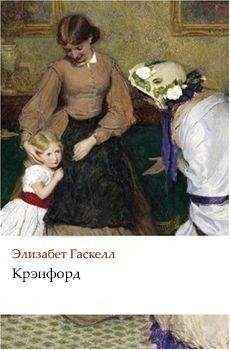Элизабет Гаскелл - Жены и дочери
– Господи помилуй! Можно подумать, что я – голодная кошка, а она – воробьиха. Вы только взгляните, как она трепещет крылышками, как горят огнем ее маленькие глазки и как она готова заклевать меня только за то, что мне случилось заглянуть в ее гнездышко! Уймись, дитя мое! Если ты готова сидеть взаперти в душной комнате, учась тому, от чего тебе не будет никакого проку, вместо того, чтобы прокатиться на повозке с сеном Джоба Донкина, то это твой выбор, а не мой. Прямо маленькая мегера какая-то, вы не находите? – с улыбкой закончила она, глядя на мисс Эйре.
Но бедная гувернантка не увидела здесь ничего смешного, а сравнения Молли с воробьихой она попросту не поняла. Женщиной она была впечатлительной и добросовестной, на собственном опыте познавшей, какой вред может принести неукротимый и несдержанный нрав. Посему она начала упрекать Молли в том, что та дала волю чувствам, но девочка сочла, что едва ли ее можно винить в том, что она воспылала праведным гневом, направленным на Бетти. Но в общем и целом это были всего лишь маленькие печали в остальном очень счастливого детства.
Глава 4. Соседи мистера Гибсона
Молли росла среди приятных людей в условиях спокойной однообразной жизни, течение которой не нарушали никакие чрезвычайные события, за исключением описанных выше – когда ее забыли в Тауэрз, – пока ей не исполнилось семнадцать. Она стала посещать школу с попечительскими визитами, но более никогда не бывала на ежегодных празднествах в поместье. Предлог для отказа было найти совсем несложно, да и воспоминания о том дне у нее оставались далеко не самые приятные, хотя она частенько думала о том, что с удовольствием полюбовалась бы великолепными садами еще разок.
Леди Агнесса вышла замуж; дома оставалась лишь одна леди Гарриет; лорд Холлингфорд, старший сын, потерял супругу и, обретя статус вдовца, стал бывать в Тауэрз значительно чаще, чем раньше. Мужчиной он был высоким и нескладным, и его считали таким же гордецом, как и мать; на самом же деле он отличался крайней застенчивостью и неумением вести обыденные разговоры. Он не знал, что сказать людям, чьи повседневные интересы и привычки отличались от его собственных; пожалуй, он был бы чрезвычайно рад возможности обзавестись справочным наставлением о светских беседах, откуда наверняка почерпнул бы немало полезного, выучив нужные предложения на память с добродушным старанием. Он частенько завидовал бойкости речи своего словоохотливого отца, который готов был часами болтать с кем угодно, самым великолепным образом игнорируя факт бессодержательности самой беседы. Но из-за присущей ему природной сдержанности и застенчивости лорд Холлингфорд не пользовался популярностью, хотя и обладал добрым сердцем, простым нравом и обширными научными познаниями, составившими ему заслуженную репутацию среди ученых мужей Европы. В этом смысле Холлингфорд гордился им. Его обитатели знали, что рослый, ужасно серьезный и неуклюжий наследник пользуется нешуточным уважением за свой ум и знания; и что он даже совершил одно или два открытия, хотя в какой области, оставалось для них загадкой. Впрочем, было вполне безопасно показывать его гостям, посещавшим маленький городок, в качестве «того самого лорда Холлингфорда – знаменитого ученого, ну, вы меня понимаете, вы наверняка слышали о нем». Если гостям было известно его имя, то знали они и о его притязаниях на известность и славу; если же нет, то, десять к одному, они ни за что не признались бы в этом, скрывая, таким образом, не только собственное невежество, но и невежество своих собеседников, касающееся источников его репутации.
Он остался вдовцом с двумя или тремя мальчишками на руках. Они учились в частной школе, и, поскольку их общество не могло оживить атмосферу дома, в которой прошла его семейная жизнь, то он предпочитал проводить бо́льшую часть времени в Тауэрз. Мать гордилась им, отец очень любил, но при этом оба слегка побаивались его. Милорд и миледи Камнор с неизменным дружелюбием привечали его друзей; первый, правда, имел привычку принимать всех с распростертыми объятиями, но доказательством настоящей привязанности леди Камнор к своему ученому сыну можно было считать тот факт, что она позволяла ему приглашать, как она выражалась, «самых разных личностей» погостить в Тауэрз. На деле же к числу «самых разных личностей» принадлежали те, кто сумел прославиться своей ученостью и знаниями, безотносительно титулов и званий, и, следует признать, без учета изысканности манер или же отсутствия таковых.
Мистера Халла, предшественника мистера Гибсона, миледи всегда принимала с дружеской снисходительностью, сочтя его состоявшимся семейным доктором еще во время своего первого появления в Тауэрз сразу же после замужества; но ей и в голову бы не пришло вмешиваться в его обычай принимать пищу, когда он желал подкрепиться, в комнате экономки, хотя и не с нею, bien entendu[7]. Спокойный, полный, краснолицый умница доктор явно предпочитал подобное окружение, даже если бы ему предложили (чего никогда не случалось), как он выражался, «перекусить» в обществе милорда и миледи в роскошной столовой. Безусловно, если из Лондона привозили какое-нибудь медицинское светило (наподобие сэра Эстли), дабы оно озаботилось состоянием здоровья семьи, то мистера Халла, как и местную сиделку, приглашали на обед в формальной и церемонной манере. По такому случаю мистер Халл прятал подбородок в многочисленные пышные складки белого муслина, надевал черные брюки до колен, украшенные лентами по бокам, атласные чулки и башмаки с пряжками, включая прочие предметы туалета, в коем чувствовал себя ужасно стесненно и неловко, и прибывал в поместье в карете, взятой напрокат у «Георга», в глубине души утешаясь тем, как преподнесет происходящее сквайрам, которых он имел обыкновение навещать на следующий день: «Вчера за обедом граф сказал», или «графиня заметила», или «я с превеликим удивлением узнал, когда давеча обедал в Тауэрз». Но положение вещей каким-то образом изменилось с тех пор, как мистер Гибсон стал доктором par excellence[8] в Холлингфорде. Обе мисс Браунинг были склонны полагать, что причиной тому послужила его элегантная фигура и «изысканные манеры»; миссис Гуденоу уверяла, что всему виной «его связи в среде аристократии» – «сын шотландского герцога, дорогая моя, и неважно, законный или нет», – но, как бы там ни было, факт оставался фактом. Хотя он частенько просил миссис Браун дать ему что-нибудь перехватить на скорую руку в комнате экономки – у него попросту не было времени на всю эту церемониальную суету ленча с миледи, – его всегда были готовы принять в самом избранном кругу гостей дома. Он мог пообедать с герцогом в любой день, когда ему только вздумается, при условии, разумеется, что приезда герцога ожидали в Тауэрз. Он разговаривал с шотландским, а не с провинциальным акцентом. На костях его не имелось ни капельки лишнего жира, а стройность, как известно, верный признак благородного происхождения. Цвет лица его отличался изысканной бледностью, а волосы были черными; в те времена, спустя десяток лет после окончания большой континентальной войны, бледность и темные волосы сами по себе служили отличительным признаком. Его трудно было назвать жизнерадостным и общительным, как со вздохом отмечал милорд, но ведь приглашение подтверждала миледи. Он был сдержан в общении, интеллигентен и немного саркастичен. Словом, мистер Гибсон был исключительно презентабелен.
Шотландская кровь (а в том, что он был шотландцем, не могло быть ни малейших сомнений) придавала ему колючего достоинства, которое заставляло всех без исключения относиться к нему с уважением, и в этом смысле он чувствовал себя абсолютно уверенно. Осознание собственного величия, когда время от времени его приглашали в Тауэрз, на протяжении многих лет не доставляло ему особенного удовольствия, но он понимал, что это всего лишь одно из обязательств, которые налагала на него профессия, а вовсе не общественное вознаграждение или признание.
Но когда лорд Холлингфорд вернулся, чтобы сделать Тауэрз своим домом, положение вещей изменилось. Теперь мистер Гибсон действительно слышал и узнавал вещи, которые по-настоящему его интересовали, придавая новый оттенок и смысл тому, что он читал сам. Время от времени он встречался с персонажами, задающими тон в научном мире, на первый взгляд странными и простодушными людьми, увлеченными своими собственными проектами и зачастую не знающими, что сказать по поводу всего остального. Мистер Гибсон вдруг обнаружил, что ценит знакомство с ними, а они, в свою очередь, дорожат его мнением, поскольку оно было честным и непредвзятым. И впрямь, вскоре он и сам начал отправлять результаты собственных наблюдений в научные медицинские журналы, а его существование, благодаря подобной отдаче и получению свежих идей, обрело новый смысл. Между ним и лордом Холлингфордом не возникло особой близости, поскольку один был слишком молчалив и застенчив, а другой – слишком занят, чтобы искать общества друг друга с настойчивостью, призванной преодолеть различие в социальном статусе, что изначально препятствовало их частым встречам. Но зато каждый из них с готовностью шел навстречу другому. Каждый мог рассчитывать на уважение и сочувствие с уверенностью, незнакомой многим из тех, кто величает себя друзьями, что и стало источником внутреннего удовлетворения для обоих, причем для мистера Гибсона в куда большей степени, разумеется, поскольку его круг интеллигентного и утонченного общения был значительно уже. И впрямь, среди тех, с кем ему приходилось иметь дело, не было никого, кто мог бы с ним сравниться, что чрезвычайно угнетало его, хотя в причинах подобной депрессии он не признался бы и самому себе. Среди его знакомых числился мистер Эштон, викарий, сменивший на этом посту мистера Браунинга, честный и добросердечный человек, но совершенно не умеющий мыслить самостоятельно. Его благоприобретенная куртуазность и праздность ума позволяли ему соглашаться с любой точкой зрения, не имевшей явных признаков ереси, и изрекать избитые банальности с самым благожелательным видом. Мистер Гибсон раз или два позволил себе позабавиться на его счет, заведя бедного клирика в его покладистом восприятии неких «совершенно убедительных» доводов и «любопытных, но несомненных» заявлений в болото еретического замешательства. Но боль и страдания, которые испытывал мистер Эштон, неожиданно осознавая, в какую теологически предательскую ловушку он сам себя загнал, и сильнейшие угрызения совести, коим он предавался после своих же предыдущих допущений, оказывались настолько сильными, что лишали мистера Гибсона всяческого удовольствия, и он спешил поскорее вернуться к Тридцати девяти статьям[9] со всем благорасположением, на какое только был способен, как к единственному средству умиротворить совесть викария. По любому другому вопросу, за исключением ортодоксальных, мистер Гибсон мог завести клирика куда угодно, но невежество мистера Эштона в отношении большинства из них не позволяло ему покорно согласиться с выводами, способных потрясти его. Викарий обладал некоторым состоянием, не имел супруги и вел жизнь праздного и утонченного холостяка. Хотя он не слишком часто навещал своих самых бедных прихожан, зато всегда готов был облегчить их насущные нужды в наиболее либеральной и, учитывая его привычки, наиболее бескорыстной манере, стоило только мистеру Гибсону или кому-либо еще заикнуться о них.