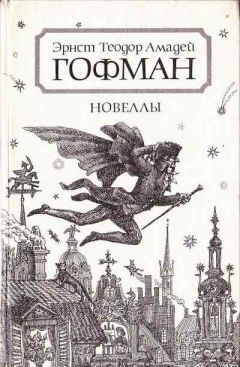Белькампо - Избранное
Сразу после пробуждения я сочинил письмецо патрону этой обители, изложив в нем свою просьбу с добавлением нескольких льстивых словесных завитушек.
Помахивая сей эпистолой, я спустился вниз, туда, где пел женский голос. Служанка, молодая эстонка, чистила посуду и показала мне на строение через дорогу — это было жилье патрона. Да вот и он сам, стоит на крыльце, с длинной бородой, в широкой блузе, купальных трусиках и сандалиях.
Когда я вижу человека с бородой, у меня всегда возникает желание распять его на кресте, но в данном случае это было невозможно, потому что он простер ко мне руки, а лицо его, насколько я мог разглядеть через улицу, выражало мир и покой.
Вначале я подумал: «Он видит меня в сияющем облаке и протягивает руки в молитвенном восторге»; затем подумал: «Нет, он хочет мне сказать „брат, все мое — твое“», и в конце концов руки приняли такое положение, что я смог прочесть «дай мне возвысить тебя до нас, брат». Я тоже немного подвигал руками, чтобы принять позу, приличествующую случаю, взошел по ступеням и вручил ему свое послание, которое, как мне показалось, очень его заинтересовало.
Передо мной поставили большое блюдо винограда и блюдо сырых овощей. Неодетые части тела моего благодетеля от утренней свежести покрылись гусиной кожей. Он давал аудиенцию другому бородачу. О чем шла речь, я не разобрал, собеседник что-то писал на бумаге, мсье Жан-Пьер — так звали моего покровителя — прочитывал и давал ответ. Он то и дело вздрагивал от холода, жестом отчаяния запускал руку поочередно в бороду и в шевелюру, иногда выдергивая из бороды отдельные волоски, очевидно лишние, и при этом делал каждый раз движения, напоминающие танец журавля. Его павильон был похож на лабораторию алхимика под открытым небом: на столах и на полу — всюду громоздились стопки книг, между ними стояли загадочные приборы, посуда для сырой пищи, куски сплава разных веществ, пишущая машинка, собака, и все это без какой-либо ширмы, ничем не отгороженное от природы. Усадьба мсье Жан-Пьера смахивала на учреждение в стиле Монтессори[9] для взрослых; наверху, на плоской крыше сарая, кто-то сочинял вирши, в глубине сада клали стенку из кирпичей, а когда я немного погодя решил попрощаться с мсье Жан-Пьером, он спиливал ветки грушевого дерева. Я предложил нарисовать его портрет; сначала он изобразил крайнее восхищение, но после нескольких минут глубокого раздумья заявил, что сейчас не расположен. Молодой чудак, минут пятнадцать бегавший по саду нагишом, дал мне на прощание в качестве рекламы большую краюху хлеба собственной выпечки. «Очень питательно», — добавил он на ломаном немецком. «Мне жаль, — ответил я, — что не могу здесь остаться: мой дядя на днях отплывает из Генуи, и я должен его повидать».
В деревне жил голландец-столяр, добрый малый, но про колонию мсье Жан-Пьера из него было трудно вытянуть и слово. Никто не ведает, чего они там творят, на что живут, а хлеб они пекут из куриного корма.
Когда люди не знают, на что ты живешь, они не знают, что с тобой делать — уважать или презирать, и эта неизвестность им так мучительна, что они бы предпочли вовсе извести тебя. Столяр послал меня к другому голландцу, который разводил голубей где-то за Вансом. Погода тем временем снова наладилась, повсюду на склонах ютились маленькие домики колонистов, разноплеменный соус, пролившийся на самую солнечную сторону Франции. Семья голубевода пребывала в нервном напряжении, они вбухали весь капитал в свое предприятие, которое должно было принести доход еще не скоро, и теперь выдерживали поединок со временем; сотни голубей, сидевших еще все вместе в обширной вольере, нужно было одним духом расселить по голубятням. Я почувствовал себя круглым идиотом, придя к ним поболтать, и с радостью бы незаметно улизнул, но не знал, как это сделать. Хозяин же не отпускал меня, пока я не сел с ними перекусить.
Пройдя Кань, я оказался там, где красивейшую природу потеснила безвкусица богатеев. Такая картина продолжалась до самой итальянской границы. Я решил, что лучше нарушить данную себе клятву, чем полдня кружить между виллами, и сел на трамвай. Бюро путешествий преподносят все иначе, благодаря чему эти концлагеря для отпускников по-прежнему процветают. В Ницце, на центральной улице, ко мне подошел немецкий паренек; мы немножко поболтали, и, узнав, что мне пока некуда деваться на ночь, он сказал: «Идем со мной, мы пойдем в приют, это бесплатно». Там уже стояла целая рота бездомных. Мы примкнули к группе говорящих на немецком — путешествующих студентов, политических беженцев, нищих. В темах для разговора недостатка не было: откуда пришел и куда путь держишь; адреса, где можно заночевать и поесть, где хорошо и где плохо, полиция, таможня — все очень важные для ходока и бродяги вещи. Когда мы предъявили паспорта и сдали свои пожитки, которые были сложены и заперты в чулан, нас впустили в большой зал, уставленный рядами скамеек и со сценой в дальнем конце. Там пришлось прождать еще час, мы переговаривались друг с другом, только одиночки держались совсем обособленно и сидели, глядя в пространство, — интеллигенты, стеснявшиеся, что скатились на дно жизни, великолепные трагические модели. Прислонившись к стене, стоял молодой негр в кепке, надвинутой на ухо, ему было наплевать на то, что все сидят, фигура, выражающая заносчивое упрямство. Рядом со мной сидел итальянец-рабочий с пятилетним сыном; он обращал ко мне целые тирады, но минут через пятнадцать, очевидно, заметил, что я не понимаю почти ни слова, и повернулся к соседу слева. Наконец распахнулись двери столовой; за один раз она вмещала двадцать человек, значит, нужно было ждать снова, потому что нас набралось больше двухсот. Правда, группы едоков сменяли одна другую устрашающе быстро.
Нас встретили несколько женщин, одетых как монахини ордена бабочкоголовых. Каждый должен был взять себе из общего бака ложку и вилку, но садиться не разрешалось, покуда старшая из монашек не пробубнила скрипучим голосом свою молитву. После этого мы могли наброситься на тарелочку рисового супа с двумя ломтиками хлеба; порции супа и хлеба соперничали друг с другом в миниатюрности. Мне повезло: в моем супе плавали две морковки. Прием пищи совершался в бешеном темпе, чтобы первым делом не упустить ни крошки тепла. Уходя, мы должны были сунуть свои тарелки в окошко.
Как только подобным же манером разожгла свой аппетит последняя группа и все собрались в соседнем зале, на подиум вышел господин из благотворительности и громогласно продекламировал «Отче наш». С этим напутствием мы были разведены по спальным залам; постели были свежие, но из-за грязной одежды гостей скоро установилась атмосфера, похожая на воздух в метро. Я не стал снимать брюки, потому что боялся за свою наличность. Когда потушили лампы, там и сям еще долго тлели красные огоньки сигарет.
Я лежал и думал: «Тут собрались беднейшие из бедных, но сколько в них духовного богатства, о котором привилегированные слои даже понятия не имеют; вот она, подлинная драма жизни, представленная во всей своей пестроте, где соседствуют самая жгучая боль и самое пылкое сочувствие, в свою очередь смягчаемые юмором и взаимопониманием».
Наутро в шесть прозвучала команда вставать. Умывание прошло быстро, мыла и полотенца у меня не было, они были заперты с вещами, так что я просто ополоснулся водичкой; правда, висели общие полотенца, но, кто ими утирался, для того умывание шло насмарку. Мы успели позавтракать с первой группой; процедура была точно такой же, как и на ужине, только сейчас в тарелочке плескался бульон. В семь утра я вместе с немцем уже стоял на улице; он был мясник, и его здоровый вид мог служить примером для скотины, которую он забивал, как это нередко бывает у мясников. Он несколько лет работал в Вене и стал специалистом по венским сортам колбасы; благодаря этому он сможет найти работу в Марселе и направляется как раз туда. А если ничего не выйдет, то он всегда сумеет заработать себе кусок хлеба весьма оригинальным изобретением: полоска резины, по обоим концам которой торчали загнутые наподобие крючка булавки; с помощью этого приспособления можно скреплять рукава и штанины, вешать шляпы и выполнять еще с десяток разных операций. Тайной изготовления владел он один, а производственными затратами можно было пренебречь. В воздухе потеплело; выйдя на большую площадь, мы присели поесть. Я вытащил из рюкзака хлеб, которым угостил меня нудист, мясник взял кусочек попробовать и тут же начал читать мне лекцию. Этот хлеб обладает многими преимуществами перед обычным хлебом: во-первых, он питательней, во-вторых, богаче витаминами, в-третьих, тверже и поэтому полезней для зубов, а в-четвертых, от него не бывает запоров.
ГЕНУЯМы распрощались на почте, у окошка «до востребования», после чего я сел на автобус до Ментоны, чтобы скорей миновать эту унылую местность. Через час после Ментоны я был уже на границе и вступил на землю третьей, если не считать Монако, зарубежной державы. Итальянский таможенник сделал мне знак обождать и ушел в свою каморку; потом он вышел, сделал мне знак обождать и опять ушел в свою каморку; потом он снова вышел, сказал, чтобы я следовал за ним, но, когда был уже у двери, сделал мне знак обождать и скрылся. Другой таможенник, наблюдавший эту картину, сидя на скамеечке, в конце концов подошел к первому, и оба чуть ли не силком ввели меня в свою каморку. Дело все в том, что жест, с помощью которого мы хотим сказать: ждите или стойте, итальянцы применяют, когда хотят сказать: идите за мной! Итальянский язык жестов настолько богат, что обычному человеку понадобится наверняка не один год, чтобы овладеть им; говорящий итальянец непрерывно исполняет верхней половиной тела подобие танца; наши чайные визиты южанам показались бы собранием восковых кукол.