Артур Кестлер - Слепящая тьма
- Так что со мной будет? - повторил Рихард. Рубашов промолчал, и Рихард спросил:
- В кинобудке мне больше нельзя ночевать?
Рубашов, немного поколебавшись, ответил:
- Да, лучше не надо, Рихард.
И почти сразу же пожалел о сказанном, притом он Новее не был уверен, что Рихард правильно его поймет. Посмотрев вниз, на ссутуленную фигуру, он закончил:
- Что ж, пора. Выйдем порознь. Всего хорошего.
Рихард выпрямился, но не встал. В темноте Рубашов мог только угадывать, какие чувства выражал взгляд воспаленных, немного навыкате глаз; однако этот отчаявшийся рабочий, окутанный тяжелым вечерним сумраком, отпечатался в его сознании навсегда.
Рубашов вышел из фламандского зала; миновал следующий, такой же темный; под ногами тонко поскрипывал паркет. Пиету он так и не удосужился рассмотреть: худые протянутые руки Марии - вот и все, что ему запомнилось.
У выхода он на минуту остановился. Было зябко, Побаливал зуб. Он поплотнее обмотал вокруг шеи выцветший от времени шерстяной шарф. На улицах уже зажглись фонари; просторная площадь перед зданием музея казалась огромной и совершенно безлюдной; вдоль улицы, обсаженной старыми вязами, громыхая и позванивая, катился трамвай. "Интересно, найду ли я здесь такси", - подумал Рубашов, спускаясь к тротуару.
На последней ступеньке запыхавшийся Рихард догнал и робко пошел с ним рядом. Рубашов, как бы не замечая спутника, спокойно и размеренно двигался вперед. Рихард был выше и мощнее Рубашова, но сейчас, для чтобы казаться меньше, он нарочно горбился и укорачивал шаги. Собравшись с духом, он задал вопрос:
- Скажите, это было предупреждение, когда я спросил про моего друга, можно ли мне у него ночевать, а вы ответили, что "лучше не надо"? Рубашов заметил свободное такси и, свернув, подошел к краю тротуара. Рихард остановился возле него.
- Я сообщил вам все, что мог, - сказал Рубашов и поднял руку.
В-в-вы об-б-бъявите меня в-врагом? Т-товарищ, т-так же н-нельзя, т-т-товарищ!.. - Такси начало понемногу притормаживать - до него оставалось метров пятнадцать. Рихард заглядывал Рубашову в лицо, он горбился и крепко держал его за рукав. Рубашов чувствовал на своем лбу горячее и влажное дыхание Рихарда.
- Они же с-сожрут меня, эти в-волки, я же не в-враг П-а-партии, т-товарищ!
Машина затормозила; было очевидно, что шофер слышал последнее слово. Отсылать его не имело смысла: впереди, как раз по ходу движения и совсем недалеко, стоял полицейский. Таксист, старик в кожаном пальто, смотрел на Рубашова без всякого интереса.
- На вокзал, пожалуйста, - сказал Рубашов. Шофер перегнулся через спинку сиденья и захлопнул за Рубашовым заднюю дверь. Рихард стоял у края тротуара; он до сих пор не надел фуражку; его кадык судорожно дергался. Машина тронулась, набрала скорость, поравнялась с полицейским, проехала мимо. Рубашов не оглядывался, но он знал, что Рихард стоит у края тротуара и с тоской смотрит на огоньки машины.
Они ехали по центральным улицам; шофер поднял правую руку и повернул зеркальце заднего вида - чтобы все время видеть пассажира. Рубашов плохо ориентировался в городе и не мог понять, куда они едут. Вскоре замелькали окраинные улицы; потом показалось большое здание с освещенным циферблатом часов - вокзал.
Здесь у такси не было счетчиков, Рубашов неторопливо вылез из машины и спросил шофера:
- Сколько я вам должен?
- Нисколько не должны, - ответил шофер. У него было старое морщинистое лицо: он вытащил из кармана красную тряпку и тщательно, с трубным гулом высморкался.
Рубашов посмотрел сквозь пенсне на шофера. Они никогда раньше не встречались - в этом он был совершенно уверен. Шофер спрятал тряпицу в карман.
- Таких, как вы, мы возим бесплатно. - Он твердо взялся за ручной тормоз. Потом вдруг протянул Рубашову руку - старческую руку с набухшими венами и грязными, давно не стриженными ногтями. - Желаю удачи, - проговорил он, смущенно улыбаясь. И тихо добавил: - А если вашему молодому другу понадобится какая-нибудь помощь, - запомните: моя всегдашняя стоянка у музея. Для верности скажите ему мой номер.
Рубашов видел, что справа, у столба, стоит, поглядывая на них, носильщик. Он не пожал протянутую руку, а, сунув в нее какую-то монету, молча зашагал к зданию вокзала.
Его поезд отходил через час. Он выпил в буфете дрянного кофе; очень сильно болел зуб. В поезде он довольно быстро уснул, и ему приснилось, что он бежит, а за ним до пятам гонится паровоз. Паровозом управляли таксист и Рихард: они хотели его раздавить, потому что он не расплатился с ними. Колеса громыхали, паровоз приближался, а ноги отказывались служить Рубашову. Когда он проснулся, его мутило; лоб был покрыт холодной испариной; пассажиры поглядывали на него с удивлением. Поезд мчался по вражеской стране; за окном расстилалась глухая ночь; судьба Рихарда ожидала решения; зуб отчаянно, невыносимо болел. Через неделю Рубашова арестовали.
10
Рубашов прижался лбом к стеклу и посмотрел вниз, на тюремный двор. У него, от хождения взад-вперед, гудели ноги и кружилась голова. Часы показывали без четверти двенадцать, а Пиету он вспомнил около восьми четыре чaca беспрерывной ходьбы. Но это нисколько его не удивило: он знал о дневных видениях одиночников и гипнотической отраве беленых стен. Молодой партиец, ученик парикмахера, однажды рассказывал Рубашову о том, как на втором году одиночного заключения, показавшемся ему особенно тяжким, он грезил наяву семь часов подряд и прошел без передышки двадцать восемь километров по камере всего в пять шагов длиной; при этом он стер себе ноги до крови, но ничего не замечал, пока не опомнился.
"Да, рановато", - подумал Рубашов, прежде у него начинались видения только через несколько недель одиночки. Он заметил и еще одну странность: ему почему-то привиделось прошлое; насколько он знал, узников одиночки одолевают видения их будущей жизни, а если они и вспоминают прошлое, то всегда - каким оно могло бы быть, и никогда - каким оно действительно было. Интересно, много ли еще неожиданностей готовит ему его собственный рассудок? Он знал по опыту, что близкая смерть неминуемо перестраивает психику человека и толкает его странные поступки, - подобно тому, как близкий полюс сводит с ума компасную стрелку.
Низкое небо предвещало снегопад; во дворе по узкой расчищенной тропке ходили в паре двое заключенных. Один посматривал на окно Рубашова - видимо, весть о его аресте уже распространилась по всей тюрьме. Вот он опять посмотрел вверх - изможденный человек с желтоватым лицом и рассеченной, "заячьей", верхней губой; он зябко кутался в летний плащ. Второй заключенный, немного постарше, вышел на прогулку в тюремном одеяле. Заключенные явно не разговаривали друг с другом; минут через десять прогулка кончилась; охранник с пистолетной кобурой на ремне увел их как раз в тот самый корпус, который возвышался напротив Рубашова, и, прежде чем дверь корпуса захлопнулась, изможденный арестант с заячьей губой еще раз глянул на рубашовское окно. Самого Рубашова он увидеть не мог - со двора окна тюремных камер наверняка казались совершенно черными, - но взгляд арестанта был странно пристальным. "Я тебя вижу, - подумал Рубашов, - но не знаю, а ты меня не видишь, но знаешь..." Он сел на койку и негромко простучал Четыреста второму:
кто на прогулке
Правда, он боялся, что тот оскорбился и теперь не захочет ему отвечать, но Четыреста второй не был обидчивым:
политические, сразу же откликнулся он.
Рубашов удивился: Заячья Губа больше напоминал бытовика-уголовника.
как вы,
спросил он Четыреста второго.
нет как вы,
ответил тот - и наверняка ехидно ухмыльнулся. Вторая фраза прозвучала громче - возможно, офицер отстукал ее моноклем:
заячья губа мой сосед четырехсотый его вчера опять пытали.
Рубашов потер пенсне о рукав, хотя и не собирался его надевать. Он немного подумал и вместо "за что" простучал:
как
паровая ванна,
ответил Четыреста второй и умолк. Рубашова избивали не один раз - в частности, во время последнего ареста, - но про нынешние методы он только слышал. Он знал, что любые ожидаемые мучения сильный человек способен вытерпеть; их, например, можно перенести, как хирургическую операцию без наркоза, - удаляют же людям больные зубы. Нестерпимы только непредвиденные муки, когда к ним нельзя заранее подготовиться, чтобы без ошибки рассчитать свои силы.
А хуже всего - леденящий страх, что скажешь или сделаешь нечто непоправимое.
Какое обвинение
политический уклон,
насмешливо ответил Четыреста второй.
Рубашов потер пенсне о рукав, надел его и вынул пачку папирос. Их оставалось всего две штуки.
а у вас как дела,
спросил он соседа.
неплохо,
простучал поручик и смолк.
Рубашов пожал плечами и встал, потом закурил предпоследнюю папиросу и опять начал шагать по камере. То, что ему предстояло перенести, сейчас, как ни странно, взбодрило его. Угрюмая подавленность неожиданно развеялась, голова стала ясной, нервы успокоились. Он вымыл руки, лицо и шею, прополоскал рот и вытерся платком. Попытался насвистеть какую-то мелодию, оборвал, закашлялся и весело рассмеялся: слух у него всегда был чудовищный. "Если бы Первый любил музыку, - сказал ему недавно один из друзей, - он бы непременно тебя расстрелял".
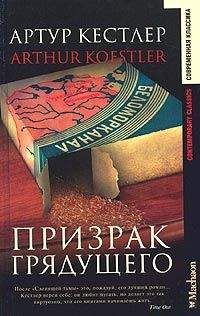
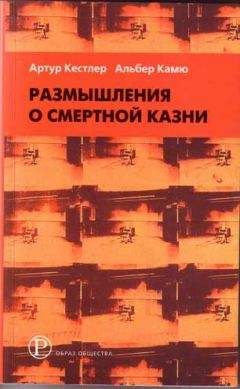
![Александр Маркьянов - Слепящая тьма [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)