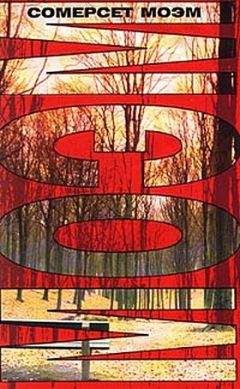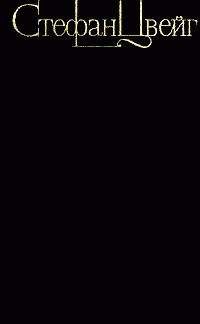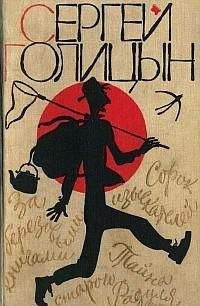Сомерсет Моэм - Белье мистера Харрингтона

Обзор книги Сомерсет Моэм - Белье мистера Харрингтона
Моэм Сомерсет
Белье мистера Харрингтона
Уильям Сомерсет Моэм
Белье мистера Харрингтона
Новелла.
Перевод с английского Гурова И., 1992 г.
Когда Эшенден поднялся на палубу и увидел впереди низкий берег и белый город, он почувствовал приятное волнение. Утро только начиналось, солнце едва встало, но море было зеркальным, а небо голубым. Уже становилось жарко, и день обещал палящий зной. Владивосток. Ощущение возникало такое, что ты и правда очутился на краю света. Позади Эшендена был долгий путь - из Нью-Йорка в Сан-Франциско, на японском пароходе через Тихий океан в Иокогаму, затем из Цуроги на русском пароходе - он единственный англичанин среди пассажиров - по Японскому морю на север. Из Владивостока ему предстояло отправиться на транссибирском экспрессе в Петроград. Такого важного поручения он еще не выполнял, и ему нравилось чувство ответственности, которое оно в нем вызывало. Он никому не подчинялся, он располагал неограниченными средствами (в потайном поясе под одеждой он вез аккредитивы на такую гигантскую сумму, что испытывал ошеломление всякий раз, когда вспоминал про них), и хотя от него требовалось сделать то, что превосходило человеческие возможности, он этого не знал и готовился взяться за дело в полной убежденности в успехе. Он верил в свою находчивость. При всем его уважении и восхищении эмоциональностью рода людского, интеллект себе подобных особого почтения ему не внушал: человеку всегда легче пожертвовать жизнью, чем выучить таблицу умножения.
Десять дней в русском поезде Эшенден предвкушал без особого восторга, а в Иокогаме до него дошли слухи, что один - два моста взорваны и поезда не ходят. Ему сообщили, что солдаты, которые никому и ничему теперь не подчиняются, ограбят его и выкинут голого в степи идти пешком, куда он пожелает. Довольно радужная перспектива. Однако из Владивостока поезд, безусловно, уйдет, и чтобы не произошло потом (а Эшендена не оставляло ощущение, что положение никогда не бывает таким скверным, как ожидаешь) он твердо решил уехать с ним. Сойдя на берег, он намеревался тут же отправиться в английское консульство узнать, что они для него устроили. Но когда берег приблизился и он яснее разглядел неряшливый и замызганный город, ему стало тоскливо. По-русски он знал лишь несколько слов. По-английски на пароходе говорил только эконом, и хотя он обещал Эшендену всю помощь, на какую был способен, у Эшендена сложилось впечатление, что рассчитывать на него особенно нельзя. И потому он испытал явное облегчение, когда они причалили и щуплый молодой человек с буйной шевелюрой, несомненно еврей, подошел к нему и спросил, не Эшенден ли его фамилия.
- А моя - Бенедикт. Я переводчик при английском консульстве. Мне поручено приглядеть за вами. У нас есть для вас место на поезде, который отходит вечером.
Эшенден ободрился. Они сошли на берег. Еврейчик занялся его багажом, представил для проверки его паспорт, после чего они сели в ожидавшую их машину и поехали в консульство.
- Мне поручено оказывать вам всемерное содействие,- сказал консул.-Только скажите, в чем вы нуждаетесь. На поезд я вас бесспорно устрою, но только Богу известно, доберетесь ли вы до Петрограда. А, да, кстати, у меня для вас есть спутник. По фамилии Харрингтон, американец. Едет в Петроград как представитель какой-то филадельфийской фирмы. Думает заключить контракт с Временным правительством.
- Что он такое? - спросил Эшенден.
- Вполне приемлем. Я хотел пригласить его с американским консулом к завтраку, но они уехали осматривать окрестности. На вокзале вам надо быть часа за два до отхода поезда. Там всегда ужасная давка, и если вы не явитесь загодя, кто-нибудь займет ваше место.
Поезд отходил в полночь, и Эшенден поужинал с Бенедиктом в вокзальном ресторане, единственном, как выяснилось, месте в этом запущенном городе, где можно было прилично поесть. Зал был переполнен. Обслуживали с изнуряющей медлительностью. Когда они вышли, перрон, хотя ждать оставалось еще добрых два часа, уже кишел людьми. На грудах багажа сидели целые семьи, словно бы разбившие там бивак. Люди куда-то бежали или стояли сбившись в кучки, и о чем-то яростно спорили. Кричали женщины. Другие тихо плакали. Неподалеку свирепо ссорились двое мужчин. Всюду царил неописуемый хаос. Свет вокзальных ламп был тускло холодным, и белые лица этих людей были как белые лица мертвецов, терпеливо или с боязнью, с отчаянием или с раскаянием ждущих приговора в Судный день. Подали состав - большинство вагонов были уже битком набиты. Когда Бенедикт нашел купе Эшендена, из него выскочил возбужденный мужчина,
- Входите и садитесь,- сказал он.- Я с большим трудом отстоял ваше место. Какой-то субчик хотел ворваться сюда с женой и двумя детьми. Мой консул только что ушел с ним к начальнику станции.
- Это мистер Харрингтон,- сказал Бенедикт.
Эшенден вошел в купе. Оно было двухместным. Носильщик уложил его багаж, а он обменялся рукопожатием со своим спутником.
Мистер Джон Куинси Харрингтон был тощим, ниже среднего роста -желтоватое, обтянутое кожей лицо, большие белесо-голубые глаза. Когда он снял шляпу, чтобы утереть лоб, увлажненный недавними волнениями, обнаружился большой лысый череп, обтянутый кожей, под которой четко и обескураживающе вырисовывались все шишки и впадины. Он носил котелок, черный сюртук с жилетом, брюки в полоску, очень высокие белые воротнички и галстук неяркой расцветки. Эшенден не мог точно сказать, как следует одеваться для десятидневной поездки через Сибирь, но костюм мистера Харрингтона все-таки показался ему несколько эксцентричным. Каждое слово он произносил четко и внятно пронзительным голосом, и по его выговору Эшенден определил в нем уроженца Новой Англии.
Минуту спустя появился начальник станции в сопровождении бородатого русского, видимо, в состоянии исступления. Сзади шла дама, ведя за руки двух детей. По лицу русского катились слезы, губы у него дрожали. Он что-то втолковывал начальнику станции, которому его супруга сквозь слезы, видимо, рассказывала историю своей жизни. Когда они остановились перед дверью купе, спор стал более яростным, и в него вступил Бенедикт, говоривший по-русски с большой беглостью. Мистер Харрингтон не знал ни единого русского слова, но, будучи как будто легко возбудимой натурой, немедленно вмешался и красноречиво объяснил по-английски, что места эти были заранее заказаны консулами Великобритании и Соединенных Штатов соответственно, и хотя за английского короля он не ручается, но скажет им без экивоков, и уж поверьте ему, что президент Соединенных Штатов ни в коем случае не допустит, чтобы американского гражданина лишили места в поезде, за которое он уплатил положенную сумму. Силе он подчинится, но только силе, и если они дотронутся до него хоть пальцем, он тотчас заявит консулу официальный протест. Он высказал все это и много еще чего начальнику станции, который, естественно, понятия не имел, о чем он говорит, однако с большой выразительностью и бурной жестикуляцией произнес в ответ страстную речь. Она привела мистера Харрингтона совсем уж в неистовое негодование: потрясая кулаком перед начальником станции, а сам побелев от бешенства, он прокричал:
- Скажите ему, что я ни слова не понял из того, что он говорит, и понимать не желаю. Если русские хотят, чтобы мы их считали цивилизованными людьми, почему они не говорят на цивилизованном языке? Скажите ему, что я мистер Джон Куинси Харрингтон и еду по поручению господ Кру и Адамса, Филадельфия, с особым рекомендательным письмом к мистеру Керенскому, и если посягательства на мое купе не прекратятся, господин Кру поднимет этот вопрос с правительством в Вашингтоне.
Мистер Харрингтон держался так воинственно, жестикулировал так угрожающе, что начальник станции сдался - молча повернувшись на каблуках, он удалился. За ним последовали бородатый русский с супругой, что-то горячо ему втолковывая, и двое умученных детишек. Мистер Харрингтон отскочил в купе.
- Мне крайне грустно, что я не мог уступить мое место даме с двумя детьми,- сказал он.- Никто более меня не уважает женщину и мать, но я обязан ехать в Петроград на этом поезде, если не хочу упустить очень выгодный контракт, а десять дней просидеть в коридоре не соглашусь даже ради всех российских матерей.
- Я вас не виню,- сказал Эшенден.
- Я женатый человек, у меня самого двое детей. Я знаю, как сложно путешествовать с семьей, но не вижу, что им мешает остаться дома.
Когда вы проводите с кем-то десять суток в уединении железнодорожного купе, то волей-неволей узнаете его почти досконально, а Эшенден на протяжении десяти суток (а точнее говоря, одиннадцати) проводил в обществе мистера Харрингтона двадцать четыре часа. Правда, трижды в день они ходили есть в вагон-ресторан, но и там сидели напротив друг друга; правда, утром и днем поезд стоял на станции по часу, и можно было поразмять ноги, гуляя по платформе, но гуляли они бок о бок. Эшенден познакомился с некоторыми пассажирами, и порой те заглядывали к ним в купе поболтать. Но если они говорили только по-французски или по-немецки, мистер Харрингтон взирал на них с кислым неодобрением, если же они говорили по-английски, он не давал им вставить ни слова. Ибо мистер Харрингтон был говорлив. Он говорил и говорил, словно это было естественной функцией человеческого организма, столь же не подчиненной человеческой воле, как дыхание или пищеварение. Он говорил не потому, что ему было что сказать но потому, что это от него не зависело. Говорил пронзительным гнусавым голосом монотонно, без интонаций. Говорил четко, пользовался богатой лексикой, неторопливо строя предложения и никогда не употребляя короткого слова если имелся многосложный синоним; говорил без пауз. Говорил, говорил, но это был не всесокрушающий водопад слов бурный и неукротимый, а поток вязкой лавы, неумолимо ползущий вниз по склону вулкана. Он струился с тихой и неодолимой силой, побеждающий на своем пути все.