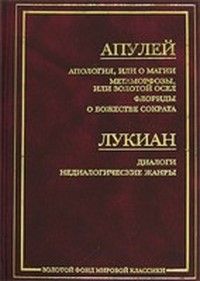Апулей - Апология, или О магии
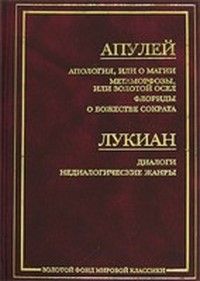
Обзор книги Апулей - Апология, или О магии
Апулей
Апология, или О магии
Апулей
Апология, или О магии
1. Право же, я был вполне уверен, Клавдий Максим, и вы, заседатели совета, я просто не сомневался, что этот заведомо склочный старик — этот вот Сициний Эмилиан — взведет здесь на меня поклеп, не озаботившись загодя его обдумать, и постарается возместить скудость улик только изобилием брани! Конечно, оговорить можно и любого ни в чем не повинного человека, но уличить в преступлении нельзя никого, кроме преступника, — и от такового сознания я особенно рад, — вот как бог свят! рад удачному и удобному для меня случаю пред судом твоим доказать беспорочность философии невеждам, ничего в ней не смыслящим, и оправдаться самому, — пусть на первый взгляд и оклеветан я тяжко, да и трудность защиты усугубляется безотлагательной ее спешностью.
Ты ведь сам помнишь, как всего лишь пять или шесть дней тому назад явился я сюда вести тяжбу против Граниев за жену мою Пудентиллу и без малейших подозрений о всем остальном, — а поверенные обвинителя вдруг обрушились на меня с оскорблениями и с ябедами, будто я-де злонамеренный чародей и даже убийца пасынка моего Понтиана! Но я-то понимал, что не столько стараются они покарать преступление, сколько затеять свару, а потому принялся настоятельно требовать и настоял, чтобы вчинили они обвинение свое судебным порядком. Тут Эмилиан, заметив твое раздражение и вынужденный от слов переходить к делу, растерялся и начал нашаривать себе безопасную щель, где бы утаить вздорную свою склочность.
2. Итак, едва пришлось ему подписывать донос, он разом начисто позабыл о сыне родного брата своего, о том самом Понтиане, убийцей коего только что честил меня столь громогласно, — почему-то он даже и не обмолвился о безвременной кончине юного родича! Однако же, дабы никто не возомнил, будто он уж и вовсе отступился от обвинения столь великого лиходея, он выбрал изо всех ябед только донос о чародействе — доказать нелегко, зато ругаться привольно!
Впрочем, ему и здесь недостает храбрости действовать открыто, — нет, вместо этого он подает на другой день жалобу от лица несовершеннолетнего пасынка моего Сициния Пудента, а себя приписывает лишь в качестве его правозащитника. Вот новый способ драться — чужими кулаками! это для того, разумеется, чтобы под прикрытием мальчишки избежать наказания за облыжное доносительство. Хотя ты с безошибочною твоей проницательностью обратил на это внимание и потому опять велел ему поддержать вчиненное обвинение также и от собственного лица, и он обещал сие исполнить, однако заставить его судиться со мною напрямик оказалось невозможно даже по твоему приказу, наперекор тебе он со всею своею клеветой по-прежнему упрямо нападает издали, вновь и вновь избегая опасного положения обвинителя и упорствуя в опекунской безответственности. Так что уже до суда всякому легко было сообразить, каково должно быть обвинение, ежели тот, кто сам его затеял и состряпал, сам же и боится произнести его от своего лица. А тем паче когда лицо это — Сициний Эмилиан, который, разнюхай он обо мне хоть что-нибудь достоверное, нипочем не стал бы тянуть с изобличением чужака, повинного в стольких злодействах! который, отлично зная о подлинности завещания дяди своего по матери, облыжно объявил его подложным! который твердил об этом без передышки, даже когда сиятельный Лоллий Урбик объявил решение совета консуляров, что завещание признано подлинным и должно вступить в силу! который до такого дошел умопомрачения, что, вопреки голосу сиятельного собрания, поклялся тогда, что завещание-де все-таки подложно, и сам Лоллий Урбик за это едва с ним не расправился!
3. Уповая на твою нелицеприятность и мою невиновность, я надеюсь, что сходное с помянутым решение положит конец также и настоящему разбирательству, ибо очевидно, насколько легче оговорить невинного тому, кто привычен к оговорам и уже был, как я сказал, уличен в лжесвидетельстве по весьма важному делу самим префектом города. Право же, если честный человек, раз ошибившись, следит затем за своим поведением с еще пущею осмотрительностью, точно так же сущий подлец со временем только наглеет и тем менее скрывает свои подлости, чем чаще удается их совершить, ибо стыд словно одежа: чем больше ветшает, тем меньше о ней попечения. Именно поэтому я почитаю необходимым ради незапятнанности стыда моего прежде опровергнуть всю взведенную на меня хулу, а уж после перейти к сути обвинения. Воистину, защищаю я не одного себя, но и самое философию, коей величие хотя бы и малейшим уязвить попреком есть злейшее преступление; и тем не менее только что поверенные Эмилиана, столько навравшие лично обо мне, заодно — как и свойственно невеждам! — охаяли продажными своими словесами всех вообще философов. Даже если предположить, что пустословие их было корыстным и что за бесстыдство свое они успели получить задаток, — у этих наемных сутяг издавна такой обычай, чтобы непременно ядовитым своим языком бередить чужие болячки, — даже если это так, все же хотя бы и в немногих словах мой ответ должен содержать необходимое по сему поводу опровержение, дабы не показалось, будто я, неизменно и упорно ревнующий, как бы не замараться никаким бесчестием, вовсе не отвечаю на этот вздор не из презрения к оному, но от неумения порядочно ответить. Право же, я думаю, что людям скромным и щепетильным вообще свойственно огорчаться, ежели бранят их, хотя бы и облыжно, коль скоро даже тот, кто сознает себя в чем-либо виноватым, все-таки тревожится и гневается, заслышав дурной о себе отзыв, — а ведь, взявшись за дурные дела, можно и попривыкнуть к дурному с собой обращению уже потому, что ежели другие и промолчат, то сами виноватые помнят и понимают, сколько заслужили попреков. Тем паче всякий честный и непричастный никакому злодейству человек, неупражненный слух которого к брани не приучен и который свыкся с похвалами, но отнюдь не с нежданными оскорблениями, — такой человек особенно скорбит душою, когда его облыжно оговаривают в том, в чем на самом-то деле он сам бы мог винить кой-кого другого.
Поэтому ежели вдруг покажется, что в защитительной моей речи я склонен отвлекаться на пустые и неважные безделицы, то укорять в этом надлежит тех, у кого охота к столь гнусному доносительству, а с меня спросу нет, ибо по чести я буду опровергать все — даже и любую чушь.
4. Итак, ты только что слышал, какими словами начинается обвинение, а слова такие: «Мы обвиняем пред тобою философа миловидного, а также» — вот ведь кощунство! — «равно и весьма искушенного в греческом и латинском красноречии». Именно так, если я не ошибаюсь, начинал обвинение против меня Танноний Пудент, о коем просто немыслимо сказать, будто он искушен в каком бы то ни было красноречии. О, если бы он и вправду уличил меня в столь тяжких преступлениях — в миловидности и в речистости! Тогда я без труда возразил бы ему, как Гектору возражает Гомеров Александр:
Нет, не презрен ни один из прекрасных даров нам бессмертных:
Их они сами дают, произвольно никто не получит, то есть: «Отнюдь нельзя охаивать преславные дары богов, однако таковыми дарами непременно наделяют сами боги, а многим вожделеющим не достается ничего». Это я ответил бы касательно красоты, да еще добавил бы, что даже философам позволительно иметь приятную наружность: так Пифагор, первый объявивший себя философом, красою превосходил всех своих современников; тоже и древний Зенон, уроженец Велии, который первый с искуснейшею проницательностью разрешил неразрешимые апории, этот самый Зенон тоже был на редкость хорош собою — так пишет Платон! Можно припомнить к слову еще множество весьма почтенных философов, у коих лепота телесная украшалась добротою честного нрава; но подобные оправдания имеют ко мне весьма отдаленное касательство, потому что наружность моя и вообще достаточно заурядна, а от неустанных ученых трудов внешняя моя приятность и вовсе слиняла — все соки из меня выжаты, тело хилое, вид испитой, лицо бледное, сила на исходе. Даже волосы, о которых они тут лгут в глаза, будто я-де ношу их длинными развратного ради щегольства, — ты сам видишь эти мои прельстительные кудри: взъерошенные, нечесаные, свалявшиеся в войлок, там и сям вихрами, всклокоченные, косматые, такие, что и не расчесать: я давным-давно не имел времени не то чтобы позаботиться о прическе, но хотя бы распутать гребнем мой колтун! Полагаю, что этим достаточно опровергается злонамеренная моя кучерявость, за которую они тут хотят, чтобы я чуть ли не головой отвечал.
5. Касательно же красноречия, когда бы и вправду владел я таковым даром, то чему здесь дивиться и чему завидовать, ежели с юных лет я только и ревновал о словесной науке, отдавая ей все силы и совершенно презрев прочие удовольствия? Да и ныне, осмелюсь полагать, вряд ли найдется кто другой, кто бы вот так, как я, день и ночь проводил бы в ученых трудах, пренебрегая даже и ущербом собственному своему здоровью. Однако же красноречия моего они боятся напрасно, ибо ежели я в нем сколько-нибудь и преуспел, то превосходства мне это не дает, но лишь надежду. Тем не менее нет сомнений, что если Стаций Цецилий в стихах своих впрямь говорит правду, будто кто речист, тот и душою чист, то я, конечно, на таковом основании готов повсюду объявить, что никому на свете речистостью не уступлю! Воистину, найдется ли тогда кто-нибудь речистее меня, ни разу не помыслившего ничего такого, о чем нельзя было бы сказать открытой речью? Да, я утверждаю, что горазд говорить, ибо нет за мною такого слова или дела, о котором я не мог бы говорить при всех. А коли так, вот я и поговорю теперь о своих стихах, сочинение коих вменяется мне тут чуть ли не в постыдную провинность. Ты уже и сам заметил, как меня сразу и смешило и раздражало, когда стихи эти оглашались тут этими невеждами с безграмотным неблагозвучием.