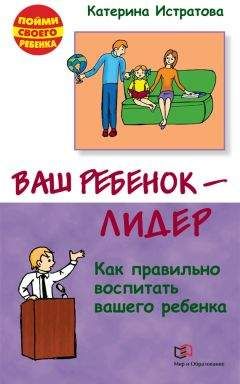Хосе Гарсия Вилья - Во имя жизни
Из поселившихся в аксесории кто умер, кто прижился на новом месте, а кто снова уехал, люди уж не помнили их в лицо, помнили лишь, чем они занимались... И все то время мою жизнь освещала твоя улыбка. Тебе было тринадцать, когда я осмелился поцеловать тебя в щеку, потому что наступали японцы, и отец решил переехать в деревню. Ты тоже поцеловала меня, неловко ткнувшись губами где-то между носом и ртом, потом убежала. В ту ночь я заснул, уронив голову на сложенные на подоконнике руки: все надеялся увидеть тебя в окне, несмотря на поздний час, или услышать хоть слово, хоть покашливание. Но я так ничего и не услышал до следующего утра, когда отъехал грузовик, и ты мне крикнула вдогонку:
— Прощай!
Урожай был плохой, перебивались чем придется, и отец сказал: вернемся в город и будем жить в аксесории — свой дом мы продали. Вы тоже продали свой дом и поселились рядом с нами — дверь в дверь. Так мы встретились снова и общались все это страшное время, как все тогда, — ни о чем не расспрашивая, молча глядя друг другу в лицо, в запавшие глаза. На улицах и площадях, на базарах города валялись пухнущие с голода, покрытые язвами люди, мертвые вперемежку с еще живыми — жертвы тяжких испытаний и мучительного изнуряющего голода, заставшего врасплох; дрожа от страха, люди толкали перед собой тележки, продавали не только одежду, но и тех, кто ее носил; впрочем, были и другие — они сражались в горах... В это черное время, вопреки ему, мне светила твоя улыбка, Магдалина.
Вдруг однажды ночью я услышал:
— Крис, Крис, война окончилась! — отчаянный крик радости человека, стосковавшегося по жизни и счастью в мире, оглушенном выстрелами и пушечной канонадой. Боже мой, боже мой, кончилось, кончилось самое страшное для всех на земле бедствие.
— Крис!
Высунувшись из окна, я глядел на отражение белой стены в стоячей воде канала и, обернувшись на твой зов, увидел, что ты сидишь в той же позе, сложа руки на груди, — все еще там, в прошлом, в воспоминаниях.
— Крис, я думала, ты позабыл обо всем... Как я рада, что ты здесь, что ты продолжаешь учиться. Мне пришлось бросить учебу: компенсацию за отца нам не выдали. Да если бы он вернулся живым из Форта42, если бы мать была жива, он не принял бы денег за то, что был в партизанах, ты же знаешь, какой он отличался щепетильностью.
Отец Магдалины, учитель старших классов, всегда ратовал за социальную справедливость; я до сих пор помню его — строгий, подтянутый, в белом костюме, с открытым добрым взглядом.
— Дядя не хочет, чтобы я работала, да и появись у меня такое елание, нигде нет свободных мест.
— Есть одна вакансия, тебя дожидается, — сказал я.
— Правда? Где? Какая? — взволнованно спросила ты, подавшись вперед.
— Надеюсь, ты не прочь занять ее. — Я сел на стул против тебя.
— Конечно! Я серьезно спрашиваю: что за вакансия?
— Хозяйки дома, — ответил я.
— Ну вот, ты опять за старое!
— Я не шучу.
Ты поднялась со стула, глянула в окно. Я встал рядом. Мы были молчаливы, как наши тени, падавшие на стену по другую сторону канала; подсветку давала лампочка, висевшая сзади, почти у нас над головами. Внизу группа парней распевала непристойную песенку, обращаясь к трем гомикам из своей компании, сидевшим на парапете. На приличном расстоянии от них трое мужчин, справляя большую нужду, мирно покуривали. В воду шлепнулся какой-то сверток, и вдоль канала побежала женщина, придерживая сзади юбку.
— А ну, прочь с дороги! — шуганула она ребятишек, чертивших «классики» на земле возле пивной. Там заводили пианолу. Певица с пластинки надрывно кричала: «Мне это нравится! Мне это нравится!»
По улице Хуана Луна изредка цокала копытами по асфальту лошадь, с ревом проносились джипы и грузовики.
— Когда думаете переезжать? — спросил я.
— Пожалуй, в пятницу. Если верить бумаге из муниципалитета, снос начнется завтра. Раньше чем за четыре дня до нас дело не дойдет. Собираться нам недолго. — Ты отвернулась от окна, оглядела комнату, и стоя ко мне спиной, продолжала: — И перевозить нечего — раскладушка... Ой, смотри, Бой спит как убитый! Чемодан, стулья, стол, алтарь. Мелочь уложу в пустой ящик из-под апельсинов — тарелки, горшки. В общем, не придется тратить много времени и сил на переезд.
Снизу кто-то из мужчин закричал:
— Свет! Камера! Мотор!
Вдруг до меня дошло, что кричат нам: мы стояли спиной к окну, и наши тени на стене слились. Я глянул вниз. Три гомика хохотали, один из парней громко спрашивал:
— Где Виктор? — и требовал: — Позовите Виктора!
Остальные, задрав головы, глазели на нас. Я знал этих
ребят. Почти все были моими приятелями в юности: Хусинг, Дилат, Адионг, Пертонг, Саканг. Я еще писал за них любовные письма, когда впервые сменил короткие штанишки на брюки, простаивал с ними часами в лавках спекулянтов или сидел в пивной у Паулы, отпуская шуточки по поводу роскошного бюста Долорес, рассказывал анекдоты, рассматривал неприличные открытки. Порой ходил за компанию на соседние улицы — распевать серенады то одной девчонке, то другой. В один из таких вечеров я познакомился с Виктором. Про него поговаривали, будто он водит дружбу с Апионгом Лунгга, главарем всех бандитов в Тон-до, об их стычках с полицией. Виктор жил на соседней улице, и я часто ловил на себе его взгляд в пивной Паулы, в лавке Тангкада, но тогда он со мной не заговаривал, и это было обидно: я хотел с ним подружиться, если он, конечно, не считал меня молокососом. А потом мы с ним познакомились, и мое желание исполнилось: я стал его другом.
А вышло это вот как. Мне и моим приятелям — Хузе, Адионгу и Пертонгу, запретили появляться у дома одной девчонки. Она была вовсе не красавица, и серенады мы ей пели, потому что ее мать угощала нас за это вином и сигаретами. Мы обсуждали, как лучше проучить отца девчонки, прогнавшего нас: обобрать ли плоды с дынного дерева или перебить все цветочные горшки перед домом — была такая сценка в кино, — как вдруг кто-то сказал из темноты по-тагальски:
— Шли бы вы домой, ребятишки! — И спросил: — Кто пел серенаду?
Ребята указали на меня, и Виктор — это был он — обнял меня сзади за плечи. При свете уличного фонаря я увидел совсем близко его лицо — никаких шрамов, приветливые глаза, припухлая нижняя губа. Виктор спросил низким гортанным голосом:
— Ты дружишь с Магдалиной?
Я кивнул. А потом мы с ним стали друзьями, настоящими друзьями. Иногда он брал меня в кино, а то и в ресторан — туда, где можно было бы провести время после занятий в школе без моих школьных приятелей — Фреда, Ноэ, Пика: Виктор в душе завидовал им.
— Вот увидишь, Крис, когда-нибудь и я пойду учиться, буду зарабатывать деньги своим трудом и жить, как ты, — сказал он однажды. — Я неплохой человек, поверь, просто жизнь вынуждает заниматься не тем, чем следует.
Виктор по-разному выказывал мне свое расположение. Однажды Тсикито, приказчик в лавке Тангкада, обозвал моего младшего братишку нехорошим словом, и Виктор дал ему пощечину. Он не позволял обижать своих друзей, порой жизнью рисковал, защищая тех, кто не мог постоять за себя. Детишки нашего дома видели в нем Робин Гуда. Письма, которые я сочинял за него, помогли ему завоевать любовь Салюд — он сам мне про это рассказывал. Потом он, правда, бросил ее, но причину разрыва сохранил в тайне. Случалось, я приводил его к тебе в гости, Магдалина, и он каждый раз робел, смущался и молчал, будто воды в рот набрал, — ни слова про дела с Апионгом Лунггой.
— Хорошая у тебя девочка, приятель, — говорил иногда Виктор, одобрительно хлопнув меня по спине. Несколько месяцев тому назад, когда мы перебрались в Гуд Вью, он и грузил наши вещи, даже своих друзей позвал на помощь.
К группе парней внизу подошел Виктор. С размаху влепил пощечину хохотавшему гомику. Из окон высунулись любопытные, их тени заплясали на стене. Тень Виктора поднялась над другими, и руки его будто стерли со стены темные отражения чужих рук, голов, тел. В открытых окнах на всякий случай погасили свет. Зеваки, сидевшие на парапете, убрались восвояси. Полная луна освещала Виктора, как меня той давнишней ночью, когда мы еще жили рядом с тобой — дверь в дверь. Тогда я тоже сидел один на парапете, был поздний час, вода в канале поднималась, а вместе с ней — гнилостный запах, отравлявший воздух; он смешивался с запахом гниющих отбросов на берегу. Называется, подышал чистым воздухом! Я пошел домой, как сейчас шел Виктор, — прикрыв рот и нос ладонью.
— Душа у Виктора хорошая, — вывел меня из задумчивости твой голос. — Он всегда относился к нам по-доброму.
— Да, — отозвался я.
Виктор не появлялся. Я ждал, что он поднимется наверх, и прислушивался к шагам.
— Это Виктор подыскал дяде работу на пристани. Они оба члены профсоюза, увольнение им не грозит. Он теперь редко гуляет по ночам.