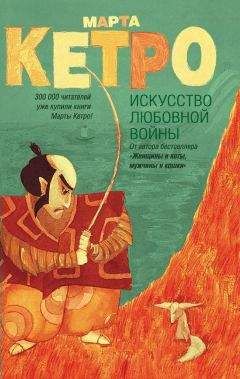Денис Драгунский - Каменное сердце (сборник)
Да, правда, у Ксюши Ромашовой ничего такого не было, странное дело.
«У Ромашки фигурка, – сказала Шаповалова. – Смотри, какие сиськи. Наверно, уже второй номер. А Чижова как жердина».
Спичкин подумал и сказал, что ему больше нравится Чижова.
«Твоя Чижова дэ два эс!» – возразила Шаповалова. Что означало на школьном языке «доска, два соска». «Ну и хорошо! – раздалось сзади. Это был Зильба, у него тоже было освобождение. Он сел рядом. – Дэ два эс это класс, если вперед глядеть» – «Куда?» – «Вперед! – объяснил умный Зильба. – Когда в нашем возрасте у девчонок большие сиськи, потом вообще кошмар. Как у моей тети Розы Соломоновны. Во!» – Он сложил руки перед грудью, выставил вперед локти и стал ими мотать вверх-вниз. «Потому что она еврейка, – сказала Шаповалова. – У евреек всегда так». – «Что, евреи хуже?» – Зильба стал кусать себе губы. Нижнюю губу верхними зубами. «Лучше, лучше, – сказала Шаповалова. – Не кипешись». – «У Клавдии еще больше!» – сказал Зильба. Клавдия была биологичка. «Больше, больше, – покивал Спичкин. – При чем тут евреи? – И стукнул Шаповалову по плечу. – Ни при чем тут евреи!»
Спичкин, бывало, защищал Зильбу по еврейским делам.
Поэтому Зильба признался Спичкину, что ему очень нравится Чижова. Что он в нее, наверное, влюблен. Рассказал под страшным секретом. Велел поклясться. Спичкин поклялся легко. Вообще-то она ему тоже нравилась – вдруг резко и даже неприлично понравилась, до щекотки в одном месте, после этого разговора на физкультуре – но он решил уступить ее Зильбе. Уступить в своих мечтах.
А сам после одного случая переключился на Ромашку.
Потом папа вместе с композитором Мгебрадзе начал писать героическую оперетту про войну. Условное название «Весна на фронте».
Маме не понравилась эта затея. «Там что, будут танцы и песенки?» – «Конечно!» – «Про войну нельзя вот так!» – «Как?» – «Вот так, в опереточном духе! С шуточками. Романтическая пара, комическая пара, веселые куплеты, да?» – «Да! – закричал папа. – Таковы законы жанра. Я воевал, между прочим! Я видел смерть! Но вот что я тебе скажу совсем серьезно: если бы люди на войне не шутили и не смеялись, если бы не пели веселые песни – я вообще не знаю, чем бы дело кончилось». – «Я тоже была на фронте, – сказала мама. – Недолго и в штабе, ты же знаешь. Два раза была под обстрелом. Никаких шуточек-песенок. Страшно было и очень мрачно. Горестно». – «А как же вера в победу?» – наступал папа. «Не знаю», – сказала мама. «Ну, хватит». – Папа обнял маму. «Хватит, хватит». – Она поцеловала его.
Спичкину всё это очень нравилось: вот какие разговоры у него в семье! Потому что Ромашка жаловалась на своих: то молчат всю дорогу, то говорят, кого куда назначили, скукота!
Спичкин с мамой и папой на новенькой зеленой «Волге» ездили на дачу к композитору Мгебрадзе. У него было целых три дачи в поселке композиторов под Москвой: одна собственная, другая записана на мужа дочери, редактора в музыкальном издательстве, третья – на сестру, которая замдиректора Гнесинского училища. Целый квартал, даже целая улица. Вся огромная семья, вся туча родственников жила там. Между участками не было заборов, и кроме домов там было настроено много всякого – беседки, площадки для волейбола, открытые печи для шашлыка и рядом огромные деревянные столы под навесом, легкие остекленные домики, где можно было пировать, играть, ночевать…
Спичкин осмелел насчет профессии своего папы.
Один раз мама Ини Ларионова – Спичкин зашел к нему после уроков – спросила: «А твой папа кто?» – и Спичкин ответил вот прямо так: «Ян Коробков». «Кто-кто?» – Она слегка наморщила лоб. «Поэт-песенник Ян Коробков, – сказал нахальный Спичкин и поднял палец, потому что в соседней комнате по радио как раз передавали дуэт Луны и Спутника из оперетты «Космонавты». – Это он написал слова!» – «Останешься у нас обедать?» – спросила мама Ини Ларионова. «Спасибо большое!» – сказал Спичкин, продолжая соображать, как устроен мир.
Вот.
Все сели за стол, и Коробков опять оказался рядом с Чижовой. Шаповалова сидела напротив и подмигивала. Лера Бакушинская, бывшая Смоляр, сказала, что вот все мы собрались, за нашу вечную дружбу и все такое. Потом Антип, он стал очень православный – борода, седые волосы до плеч, ветчины не надо – Антип встал и сказал:
– За светлую память тех, кто ныне в царствии небесном.
Все встали, выпили, не чокаясь.
– А Ромашка где? – спросил кто-то. – Я ее тут видел в мэрии. Год назад примерно.
– Сгорела наша Ромашечка, – горестно сказала Бакушинская и чуть не заплакала. – За полгода сгорела. Рак. Проморгали. А ведь была прикреплена к спецбольнице. Четвертая стадия. Вот они, спецбольницы эти.
– Царствие небесное рабе божией Ксении, – басом сказал Антип, налил себе еще и выпил снова. – Какая красивая была, все в нее влюблялись.
Все сели, Чижова осталась стоять.
– Царствие небесное, – сказала она. – Жалко Ромашку. Сколько ей было? Столько, сколько нам? Жить бы еще да жить… Жалко, конечно, как человека. Но она сука была. Смешно, конечно. О мертвых ничего, кроме? – Она нагнулась к Коробкову: – Подскажи, Спичкин! А лучше молчи. Ничего, кроме правды. У нас в седьмом классе началась сплошная влюбляловка. Помните? Записки пишут, объяснения. Глазки строят. Намекают. Всем. Всем-всем-всем девчонкам. Кроме меня. Мне – ни один человек. Не то что записочку. До дома не проводит, даже в раздевалке не зажмет. А что тут зажимать, я же худая, как жердина! – Чижова налила себе полрюмки водки. – И вдруг рано утром прихожу – а у меня на парте нацарапано прямо гвоздем: «Чижова, я тебя люблю!». Я девчонкам показываю, вот мол, безобразие какое, парту испортили, да как я за ней теперь сидеть буду, это же какой стыд-позор… а внутри у меня все горит от радости. И я себе уже заранее представляю, как буду искать, угадывать, кто это. То ли кто-то наш, а может, из параллельного, а может, вообще из девятого класса… Все вокруг меня столпились, до звонка еще полминуты. Все прямо завидуют. Им-то записочки, а мне вот так, гвоздем на парте, на всю жизнь. А сука Ромашка говорит: «Это она сама себе написала!» – и как заржёт! И тут звонок. Все по местам разошлись, и всё. И всё, – она выпила, аккуратно поставила рюмку на стол. – Царствие небесное, Ромашечка! – И села.
Все несколько оторопели, но не стали лезть с моралями. Даже Антип только встряхнул своими сединами и попросил положить ему чего-нибудь постненького.
– Имеется ответный тост, – сказал Коробков, налил себе и поднялся. – Минуточку внимания. Момент истины. Столько лет прошло, пора признаться. Чижова! Это я написал «Чижова, я тебя люблю». Ура! – И выпил.
Она спросила:
– А почему стал с Ромашкой ходить?
– От робости и смущения, – сказал он.
Наверное, это была правда, насчет робости.
Ромашка сама распорядилась Спичкиным.
Когда она на весь класс беспрекословно сказала, что Чижова сама накарябала себе признание в любви, и заржала, и весь класс послушно захихикал, она понравилась Спичкину еще сильнее, чем тогда, на физкультуре, понравилась Чижова. Потому что в ней была сила, – так объяснял себе уже взрослый и умный Коробков.
И поэтому, когда Ромашка говорила ему «подай, помоги, проводи, позвони, приходи», Спичкин с удовольствием подавал, помогал, провожал, звонил и приходил. Правда, Ромашка ему ни разу не снилась, а Чижова снилась раза три – но это неважно. Все равно с Ромашкой было интереснее.
Спичкин приходил к ней в гости. Один раз был на настоящем семейном обеде. Папа, мама, брат с женой, бабушка на кресле-каталке и важный дедушка, главный редактор ежемесячного партийного журнала «Политическое просвещение». Ну и конечно, сама Ромашка, то есть Ксюша. И он. Было чинно, вкусно и уважительно. К Спичкину обращались, как к взрослому. Спрашивали про папу. Спичкин рассказывал. Его слушали. Родители переглядывались и кивали. Спичкин рассказал, как ездили на дачу к Котэ Антоновичу Мгебрадзе, композитору, с которым работает папа. «Лауреат Сталинской премии первой степени», – сказал Спичкин. «Государственной!» – поднял палец дедушка. «Да, но он ее получил при Сталине», – вежливо возразил Спичкин. Дедушка улыбнулся вполне одобрительно. Спичкин рассказал, как хитро Котэ Антонович все обштопал, три дачи, на себя, на зятя и на сестру, почти два гектара, целый собственный городок. «Интересно!» – строго сказал Ромашкин папа-полковник. «Презабавно! – еще строже сказал Ромашкин дедушка. – Это надо проверить!»
Через два месяца композитор Мгебрадзе умер от инфаркта. Папа рассказал, что Котэ Антоновича вызывали в органы, копали насчет дачи, ничего не накопали, потому что все было абсолютно законно, но напечатали жуткий фельетон в газете «Советская Культура». Котэ Антонович не выдержал позора. Сердце не выдержало. Так что не будет больше оперетт и песенок. «Какая-то сука донесла! – сказал папа. – Какая-то падла настучала!» У Спичкина покраснели уши, и лоб, и щеки, и шея. «Ты что зарделся, как маков цвет?» – спросила мама. «Потому что папа ругается матом…» – прошептал Спичкин. «Да, Яник, что ты, в самом деле! – сказала мама. – И потом, это же не секрет про его дачу, это всем было известно…» – «Не в том дело: известно, не известно… Про всех всё известно. Для таких дел надо, чтоб какая-то сволочь нашептала прямо черту в уши».