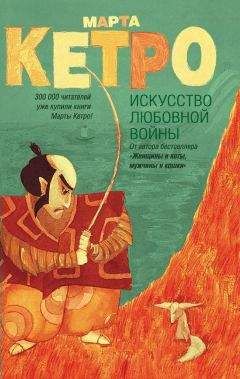Денис Драгунский - Каменное сердце (сборник)
– Ага. – Он замолчал и молчал довольно долго.
– Ну и что, в конце концов? – спросил я.
– Да ничего! – закричал он, вскочил с кресла и стал ходить по комнате. – Глупая женская месть. Привела меня к себе, почти что соблазнила – зачем? Чтобы сказать, какой я гад и подонок, как я ее унизил и оскорбил сначала тридцать лет назад, потом двадцать лет назад! Ну и память у вас, бабушка! – злобно засмеялся он. – Привела к себе, чтобы сидеть передо мной, скинув туфли, красиво забравшись с ногами на диван, с бокалом шампанского, при свечах, издевательски хохотать и говорить, что мне не обломится!
– Ну, а что ты?
– А я совсем сошел с ума. Я понял, что страшно ее хочу и даже люблю, наверное. Я говорил ей красивые слова. Просил прощения. Умолял. Чуть что не на коленях стоял. Пытался поцеловать руку, она не позволяла. Я сказал, что хочу на ней жениться! Что она прекрасней всех, что я ее люблю, что я ее полюбил еще тогда, на танцах в пансионате «Волгарь» в восемьдесят третьем году, что только злая судьба мне помешала, и всякие прочие глупости. Да, я сделал ей предложение, я правда с ума сошел на полчаса или даже больше. А она хохотала!
– Ничего страшного, – сказал я. – И вовсе ты ее не хочешь и не любишь, успокойся. Просто тебе обидно стало, что такое динамо в новогоднюю ночь, а все так красиво начиналось!
– Наверное, – вздохнул он. – Вот. Потом куранты. Мы выпили молча. Она вышла из комнаты, а я остался сидеть в кресле… Кажется, задремал. Потом проснулся, вызвал такси, и вот я перед вами. Кошмар.
– Ничего, – сказал я. – Случается.
– Какие бывают злопамятные женщины, – сказал он.
Зазвонил мобильник у него в кармане.
Он уставился на дисплей, пытаясь понять, кто звонит. Номер, очевидно, был ему незнаком. Он все-таки решил ответить. «Да? Да, да. Да, конечно!» Быстро вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь.
Вернулся через минуту и сказал, улыбаясь смущенно и глупо:
– Она согласна.
– Кто? – не понял я, хотя на самом деле понял все.
– Я же тебе сказал, что сделал ей предложение. Она позвонила, что согласна!
Я смотрел на его растерянное счастливое лицо и думал: если бы дело было в Англии в XIX веке, я бы своего друга прикончил и закопал бы в дальнем углу родового имения в графстве Девоншир.
Потому что с Леной у меня был прерывистый и безнадежный роман уже лет тридцать. Начиная с 1983 года, когда я, ночью гуляя по берегу Волги после танцев в студенческом доме отдыха, наткнулся на плачущую пятнадцатилетнюю девочку. Откуда же я знал, что она из-за него плакала?
Но поскольку сейчас XXI век, а имения у меня всего двадцать соток в ближнем Подмосковье… Дай вам бог, ребята. Попробуйте. Вдруг у вас получится?
И приходите к нам на следующий Новый год.
Дура и трус
Саша Котов лежал под кустом сирени и слушал соловья.
Соловей пел где-то совсем рядом, казалось – руку протяни, и можно выключить. Лучше выключить, потому что соловей пел очень громко, слишком громко, по ушам бабахал. А у Саши болела голова.
Он вечером выпил бутылку водки с Валей Гимпелем. История была такая: он проспорил эту бутылку Цыплакову, спор был о том, сколько лет разным героям из «Войны и мира». Цыплак говорил, что граф писал небрежно и часто путался, одни у него стареют быстрее других, а Саша держался мнения, что Лев Толстой – гений, и это мы дураки, если что-то недопоняли. Но потом не поленился, перечитал с карандашом и тетрадкой и увидел, что так и есть. Ему Гимпель помогал считать, Гимпель был на его стороне, но увы! Amicus, как говорится, Plato, но истина дороже. Цыплак прав. Купили бутылку – то есть Саша покупал, а Гимпель занимал очередь, пока Саша стоял в кассу.
Купили и поехали на Ленгоры. Было часов шесть вечера. Цыплакова в общежитии не нашли, а соседи сказали, что он вообще уехал, досрочно сдал последний экзамен и – домой, в Свердловск. Уже до осени. Потому что было самое начало июня. Саша Котов остался как дурак с бутылкой и Гимпелем. «Спрячь до сентября», – сказал честный Гимпель. «Да ну, прокиснет!» – сказал Саша, спер на общежитской кухне неизвестно чью луковицу, и они пошли в сад.
Там был университетский ботанический сад, с забором, но пройти можно было. Лучше, чем просто на горах, где люди и менты. А тут народу никого. Только вдали тетка с тачкой и метлой. Устроились среди сирени. Было уже к восьми, и Гимпель начинал дергаться, потому что мама-папа ждут. А у Саши мама-папа как раз были в отъезде, поехали вместе с младшей сестрой кататься на пароходе Москва – Ленинград, поэтому он никуда не торопился. Открыли, разрезали перочинным ножом луковицу. «У тебя хоть пирожок есть?» – спросил Саша. Гимпель помотал головой, к тому же пить он не хотел, не умел и боялся. Хотя взрослый мужик, третий курс. Саше пришлось почти все самому доканчивать. Пили из горлышка, болтали о Льве Толстом, смысле истории и роли личности в ней, а также о девчонках. Гимпелю нравилась Ксана Беляева. «Она ангел, светлый ангел!» – повторял он, краснея. Саша все знал про Ксану Би – так ее звали ребята, – но не стал рассказывать это бедному Валечке Гимпелю; зачем другу ломать кайф возвышенных фантазий? Сказал только: «Вообще-то пить начинать следует с утра, и более ни на что во весь день не отвлекаться… Кто сказал?» – «Лев Сергеич Пушкин!» – ответил умный Гимпель и сказал, что уже половина двенадцатого ночи – вот ведь проболтали! – и скоро взаправду утро, потому что ночи короткие – пятое июня – и надо скорее к метро.
Саша встал и тут же сел снова. Голова поехала, и затошнило. Все-таки грамм триста пятьдесят, а то и четыреста он осадил под пол-луковицы. Сел, потом лег на спину. Сирень крутилась над головой на фоне бледно-звездного неба. Застонал. Гимпель посоветовал проблеваться. Саша возразил, что всё уже впиталось в голодный желудок и пошло прямо в нервную систему. Гимпель сказал, что поможет добраться, а если надо – то останется с больным товарищем.
Саша едва умолил его уйти, поклявшись, что не умрет.
Гимпель ушел, запел соловей, и стало совсем невмоготу. Все крутилось перед глазами, и сирень пахла до полного задыхания.
Он все-таки задремал, провалился в сон ненадолго, а потом соловей снова его разбудил своими дикими «дюх-дюх-дюх, дях-дях-дях», как сосед электродрелью, но уже стало легче в животе, и голова не кружилась, хотя болела, и это был прогресс.
Чуточку вставало солнце. Заскрежетала тачка, и тетка в ватнике остановилась, постояла, а потом присела рядом – там был какой-то чурбачок. Взяла бутылку, кинула ее в свою тачку.
– Студент, что ли? – спросила она визгливым пригородным голосом.
Саша через силу поднялся, сел, повертел головой. Нет, не кружилась, и болела меньше.
Тетка достала из кармана маленький термос, открутила крышку, налила:
– Попей.
– Спасибо, – сказал Саша, отхлебнув горячего густо-сладкого чая. Почти ожил и увидел, что тетка вовсе не тетка, а девушка – если и постарше его, то ненамного. Года на три, не больше. Примерно такие у них на факультете были аспирантки.
Саша прихорохорился, вытащил пачку «Примы» и спички, галантно спросил:
– Не возразите, мадам? Или мадемуазель? Если я закурю?
– Мадемуазель, си вуз эмэ, – сказала девушка уже совсем другим голосом, столичным, негромким и низким. – Не кури дрянь. Держи. – Она протянула Саше заграничные сигареты, длинное название на золотой пачке.
– Благодарю вас, я не меняю сорт, – иронично сказал Саша.
– Ха! – сказала она. – Цитируешь?
Саша обмер, потому что сразу вспомнил: эмгэбэшник предлагает дорогие сигареты «Тройка» старому интеллигентному зэку, а тот отвечает, что, дескать, не меняет сорт, и гордо курит свой тюремный «Беломор». Это было в самиздатской книге Солженицына «В круге первом».
А на дворе семьдесят седьмой год, если угодно. Си вуз эмэ.
– Ничего я не цитирую. При чем тут? – зачастил он. – Я честно не меняю сорт. Кашель!
– Тот мужик потом пожалел, что не угостился. Ведь читал книжку?
– Какую?
– Исай Железницын, «В первом квадрате», ну? Не ссы, признавайся. Читал?
«Стукачка? Сексотка? – затрепетал Саша. – Или диссидентка? Поэтесса-дворничиха?»
– Ну, читал, – сказал Саша.
– Молодец! – Она раскрыла пачку, выдвинула сигарету, поднесла ему к губам. Щелкнула красивой зажигалкой. – Филфак? По глазам вижу… – И засмеялась. – Вру. Я тебя в позапрошлом году увидела и запомнила. Хороший мальчик, но почему-то совсем не мой. Обидно.
– Где видела? Здесь в саду?
– Там. – Она махнула рукой. – В стекляшке. Ты на десятом этаже, а я на одиннадцатом. На философском. Но вообще-то я полольщица альпинария и рыхлильщица сирингария. Знаешь, что такое сирингарий? Мы как раз в нем сидим. Сиренник это значит. Сиреневый питомник.
– Вкусные сигаретки, – сказал Саша. – Такие не пробовал.
– «Бенсон энд Хеджес», Англия. У нас снабжение хорошее, – сказала она. – Чай тоже, между прочим, чистый инглиш, хочешь еще? – И снова налила из термоса в крышку-стаканчик. – Тебя как зовут?