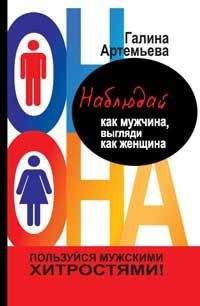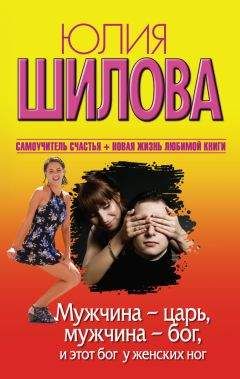Рик Басс - Пригоршня прозы: Современный американский рассказ
— Хочу кое-что у тебя спросить, — говорит Карлотта. Она протягивает руку и снимает с Дайаны летные защитные очки. Потом снимает свои. Ее глаза совсем рядом. — У меня несколько вопросов. Прежде чем ты соберешься в целое или распадешься; это ведь жеребьевка, ты можешь и то, и другое. Ты знаешь это?
— Да.
— У меня несколько вопросов, — начинает Карлотта.
— Полдень — всегда размерность времени. Это вопрос синевы и ее модальностей. Пророчество — вид поэзии. Ад — это другие люди. Ты ничем не обязан своей аудитории. Ты всегда сторож брату своему. Иисус спасает. Будда спасает. Моисей спасает. — Дайана ощущает свой голос. Он ровен.
— Я хочу знать, на что это похоже, — говорит Карлотта.
— Это ни на что не похоже. Офелия не играет здесь. Ты не можешь петь у реки. Здесь нет рек и песен. Это не избыток, это отсутствие. Тебе не нужны твои французские солнечные очки и тропический гардероб. — Сейчас Дайана пристально смотрит на Карлотту. — Ты не будешь делать фотографии или посылать открытки. Нет ни пляжей, ни почт.
— Собираешься вернулся? — Теперь голос Карлотты мягок.
— Не знаю, — признает Дайана.
— Существует ли благосклонность и искупление? — неожиданно спрашивает Карлотта.
Дайана смеется:
— Всегда.
— Как насчет моего рака? — Карлотта смотрит ей прямо в глаза.
Безумие. Откровение. Архетипические синие тропы через ничто. Протяженность знания. Убежище после борьбы. Эволюция тождественности, задыхающейся в синеве. Дайана смотрела на Карлотту. Между ними — миллиарды синих изменчивостей.
— Они всего добились. Никакого возрождения. Ты чиста, — отвечает Дайана.
Автобус останавливается. Снаружи, на минималистском дне пустыни, где даже камни кажутся странными и обреченными, беспорядочно толпятся тысячи женщин, детей, мужчин. У них бумажные плакаты и длинные бумажные и матерчатые знамена. За ними, у длинной ограды, стоят плечом к плечу сотни полицейских в форме. Дайана Бэрингтон знает, что они делают. Они охраняют ядерный объект в Меркурии, штат Невада.
После навязчивых идей, ухода в ничто, теней от канделябров в аллеях бугенвилий и утонувших галеонов, после жестокостей синего, мы изобрели эти ряды колючей проволоки, и мы можем пройти сквозь них. Мы делаем это в пустыне, где ходил Будда. Выходим из автобусов и попадаем в руки вооруженных полицейских. Делаем это, потому что мы появляемся на свет и заболеваем при мысли о фиолетовом ужасе ядерной зимы, ее холодах, ее окончательности. Для того мы и родились, думает Дайана.
Теперь они стоят в пустыне. Абстракций больше нет. Песок под ее ногами горяч. Теперь она способна чувствовать свое тело, и, наверное, это существенно. Она может чувствовать песок. Солнце. Солнце жалит ее спину, ее лицо. И она не дрожит.
— Если тебя арестуют и ты не сможешь говорить, я скажу, что ты театральная художница. Я скажу, что ты приняла обет молчания. Что не будешь говорить, пока на земле не будет мира, — говорит ей Карлотта.
Дайана моргает. Она думает, что хорошо было бы молчать до тех пор, пока не разрешатся синие проблемы вместе с их бледными фиолетовыми ранами и днями разочарований. Хранить молчание в ночи напряженного синего присутствия.
— Я боюсь, — говорит Карлотта.
Они идут к ограде. Линия полицейских все длиннее, все ближе. Видно, как солнце отражается в металле оружия. Полицейские одеты в зелено-коричневый камуфляж. Они кажутся принадлежностью пустыни, отлично к ней приспособленной. Можно увидеть свое отражение в черных пустотах их солнечных очков.
— Не бойся, — говорит Дайана. — Я сумею тебя защитить.
— Ты? Ты поэт. В твоем послужном списке это будет выглядеть ужасающе. — Карлотта ухмыляется. — Если меня арестуют, я могу лишиться лицензии. Я же адвокат. Как насчет меня? — Глаза Карлотты широко открыты, взгляд кажется тяжелым и диким.
Все нормально, думает Дайана. Восставало синее стекло, смеялся воздух, изобретая рот, молекулы подавлены, и теперь вы говорите «да» или «нет». Это единственное синее упоение, это соблазн, который мы помним наверняка. Вот почему путешествие начинается и заканчивается среди акров арестованных синих напряженностей. Вот почему мы населяем комнаты и ландшафты, вот почему творим осенние огни в гаванях и другие светло-зеленые предметы, даже двусмысленные слова и нашептанные наречия. Существует только это, думает Дайана Бэрингтон, пока они приближаются к границам ядерного объекта в Меркурии, штат Невада. Существует только эта топография души с ее каналами, похожими на реки одиночества, реки безымянного мира, ждущего любви, определенности, освобождения, последнего синего дождя, смывающего границы.
Дайана берет свою лучшую подругу за руку. Она начинает помнить. Теперь они идут через песок. Она открывает рот и кричит:
— Хватит ядерной заразы!
— Ты уверена? — Карлотта смотрит на нее.
Лицо Карлотты чрезвычайно бледно. Протянув руку, можно коснуться полицейских.
— Да, — отвечает Дайана. Затем громко: — Хватит ядерной заразы.
Сейчас солнце прямо у нее над головой. Это преднамеренное построение. Солнце есть присутствие, может быть, еще один факт в синеве, еще одна реальность. Но об этом она подумает потом. Есть «сейчас» и есть «потом». Есть ее рука и рука подруги. Яркий свет, солнце, металл. Есть этот марш через деревянные ограждения, через колючую проволоку, которая когда-то была оградой. Есть рука Карлотты, и как много рядом людей держатся за руки, идут со знаменами и плакатами. В синий пролом, где производят зараженные молекулы и атомы, и они говорят «нет». Есть синие сущности, и есть другие сущности, и то, что теперь наконец-то она больше не мерзнет.
Kate Braverman, «Desert Blues»
Copyright © 1989 by Kate Braverman
Опубликовано в «Америкен войс»
© Н. Строилова, перевод
Т. Корагессан Бойл
Плотское познание
Что-что, а мясо никогда моих мыслей не занимало. Оно лежало себе в супермаркете в прозрачной обертке; подавалось между двумя половинками булочки с майонезом, горчицей и соленым огурчиком; скворчало и дымилось на гриле, пока его не переворачивала чья-то рука, и возникало потом на тарелке с печеной картошкой и соломкой из моркови, аккуратно надрезанное крест-накрест и обильно политое красным соком. Говядина, баранина, свинина, дичь, сочные гамбургеры и жирные ребрышки — все это было для меня без разницы, еда, топливо для тела, пожуешь, почувствуешь вкус и проглотишь, давай, трудись, пищеварительная система. Впрочем, не то чтобы я совсем уж скользил по поверхности. В тех редких случаях, когда я обедал дома — разделанный цыпленок, гарнир из полуфабриката, замороженная фасоль, кекс из готовой смеси, — уминая пупырчатую желтую кожу и розовое мясо термически обработанной птицы, я задумывался о приставших к ребрам темноватых кусочках — что это: печень? почки? — но в общем-то это мне нисколько не мешало смаковать цыпленка по-кентуккийски или куриные палочки в тесте. И фотографии эти в журналах я видел, конечно, где мясные телята стоят по уши в собственных выделениях, с атрофированными конечностями и до того напичканные антибиотиками, что не могут управлять своим кишечником; но, пригласив кого-нибудь в ресторан «У Анны-Марии», я всегда заказывал телячий эскалоп.
И вот я познакомился с Алиной Йоргенсен.
Это случилось прошлой осенью, за две недели до Дня благодарения, — я точно запомнил, потому что как раз был мой день рождения, тридцать стукнуло, я сказался на работе больным и пошел на пляж греться на солнышке, читать книжку и чуточку себя жалеть. Вовсю дул теплый ветер от Санта-Аны, и до самой Каталины небо было ясное, но холодок в воздухе тоже чувствовался, предвестье, что ли, зимы, и берег в обе стороны был совсем безлюдный. Я нашел среди развала камней укромное местечко, расстелил одеяло и давай уписывать бутерброды с копченым мясом, которые взял для подкрепления сил. Потом открыл книгу — успокаивающе апокалиптический трактат о гибели планеты Земля — и подставился солнышку, читая о сведении тропических лесов, отравлении атмосферы и тихом деловитом уничтожении видов. Над головой кружились чайки. Вдали, сверкая, проплывали воздушные лайнеры.
Я, должно быть, задремал с раскрытой книжкой на коленях, запрокинув голову, — потому что вдруг, вижу, надо мной стоит какой-то пес, и солнце уже за скалу опустилось. Большой такой пес, шерсть всклокочена, один глаз голубой, и этим глазом он на меня таращится, уши чуть навострил, словно какую-нибудь собачью усладу хочет от меня получить. Мне это не понравилось — не то что я не люблю собак, но зачем морду прямо в лицо совать, — и я жест, наверно, защитный сделал, потому что он неловко так на шаг отступил и замер. С первой же секунды, хоть я и был застигнут врасплох, я увидел, что у пса не все в порядке с ногами, пошатывался он как-то, не очень твердо стоял. Я испытал жалость и отвращение — машина, что ли, его стукнула — и вдруг почувствовал, что ветровка на груди у меня мокрая, и в ноздри шибанул недвусмысленный запах: пес на меня помочился.