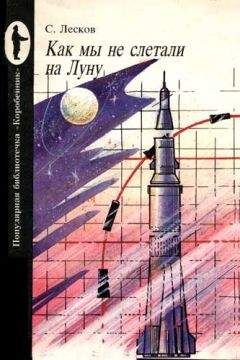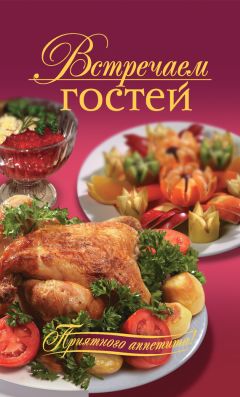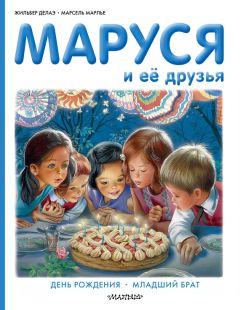Андре Пьейр Де Мандьярг - Огонь под пеплом
Тогда… Что же, я был не таким тощим, как сейчас, волос на голове у меня было больше, усталости во взгляде меньше. Вероятно, я был чистым. Возможно, одежда на мне была та же самая, что прикрывает мое тело сегодня, может, и другая, но почти новая. А главное — я ощущал в себе бесконечный запас сил, и ветер, который теперь больно хлещет меня, тогда нашептывал нырнуть в зеленую воду, подплыть к ямам мурен, броситься в заросли ежевики и ползти под кустами к тихим норам, где она (кто она?) приляжет рядом со мной в выкопанной лисицами пещерке, или забраться на самую высокую скалу и смотреть солнцу прямо в лицо до тех пор, пока меня не ослепит моя кипящая кровь, зажженная первобытным огнем. Что поделать? Это сильнее меня. Как ни стараюсь думать о другом, всегда возвращаюсь к крови. Только она связывает настоящее с прошлым.
В то время я почти каждое утро перебирался на остров с материка, где праздно проводил время среди сосен. Солеварни работали в полную силу, итальянские (по большей части сардинцы) и каталонские рабочие смотрели за солончаками, разбивали корку и убирали обломки, чистили каналы, скребли дно граблями на длинных черенках, разбирали кристаллы на складе. Все эти работы не тревожили стрекоз, которых водилось не меньше, чем сейчас над заброшенными бассейнами. Вот в этот сарай посторонних не пускали. Соль была мне ни к чему (хотя я с восторгом вспоминаю о том, что солевары называли ее по-старинному «моргана»), насекомые — тем более, но дикий остров притягивал меня, в рабочие дни маленькие пляжи были пустынны, и никто не мешал мне купаться голым в прозрачной глубокой воде и сколько угодно греться на солнце, лениво растянувшись на плоском камне или на гальке.
Каталонцы с солеварни были настолько же болтливы и общительны, насколько нелюдимы были сардинцы, так что я подружился со многими из первых, но уважал их меньше, чем вторых. Как-то раз вместе с одним из тех, кто довольно легкомысленно относился к работе, я спустился на берег с северной стороны острова, где бывал не часто (укромные песчаные пляжи и обращенные к открытому морю пещеры располагались на западном берегу), и увидел женщину, вернее, молодую девушку, она мыла в море рыбину; не помню, о чем мы говорили, но помню, что умолк и не слушал своего спутника, стараясь не упустить зрелища, в котором тот ровно ничего не находил и которому, на мой взгляд, случай придал несравненное великолепие. Длинная черная юбка присевшей на камень незнакомки сливалась с его темнотой, у ее блузки был глубокий вырез и очень широкие рукава, засученные до локтей; неподалеку лежала, свернувшись клубочком, выгоревшая шаль с потускневшим золотом. Ее склоненная фигура в наряде, походившем на одежду цыганок или женщин с Балеарских островов или Сардинии, четко вырисовывалась на светлом фоне песка; гладкие, туго заплетенные волосы были свернуты в тяжелый узел, такой же черный, как ее юбка; крупная рыбина, кефаль, прозванная за свою большую голову лобаном, которую голые руки женщины то погружали в воду, то снова вынимали, казалось, играла с ними, но очень белое под голубой спинкой брюшко было распорото от хвоста до жабр, и по рукам женщины струилась кровь.
Когда мы приблизились, она подняла голову и встретила мой взгляд, выпустив рыбу, слабо закачавшуюся в струе воды. Ее лицо показалось мне одним из самых прекрасных, какие мне доводилось видеть даже во сне, и, стоит только захотеть, мне вновь представляется этот вызывающе маленький носик, эти темные, блестящие, с рыжими отсветами глаза, огромные и широко расставленные, эти чуть тяжеловатые лоб, щеки и подбородок с легким налетом бронзы, усеянные крупинками соли, эта кожа, гладкая и матовая, словно поверхность древних статуй, к которым тянет прикоснуться ладонью. Красота Родогуны, несмотря на ее явную молодость, лишена была мягкости; еще и по этой причине ее внешность связывается в моих воспоминаниях с отроческими формами древних изваяний.
— Девка с бараном, — сказал мой спутник и сплюнул на песок.
Было раннее утро, залитое ясным светом, и меня насквозь пронизывала радость, словно я только что был сотворен вместе со всей природой. Волна без устали выносила на берег водоросли, от которых исходил почти нестерпимый запах моря.
На следующий день или, может быть, через несколько дней я снова встретил ее. Это произошло среди невысоких прибрежных скал на западе острова, на том коротком пути, каким я возвращался, выигрывая время, когда купался слишком долго. Ни один человек не ходил этим путем, потому что ему пришлось бы сначала карабкаться по едва намеченным ступенькам в слепящем, словно печь для обжига извести, рве, а потом спускаться, продираясь через колючие кусты, и, притаись в этих зарослях стая львов, она не больше отпугнула бы гуляющих, чем жгучий полдневный зной. Поэтому, услышав шорох гальки и негромкое пение, я был сильно удивлен. Приятно удивлен — чуть позже, когда увидел между двух мастиковых деревьев ту, что заворожила меня своим умением превратить неприятную работу — мыть мертвую рыбу — в своеобразный танец. Я неуклюже бросился в колючки, уступая ей узкую тропинку, и тогда она улыбнулась из-под сумрачной косынки.
Позади нее показался ее баран, крупное животное с очень темной, почти черной шерстью и необычайно широкими плоскими рогами, скрученными в виде раковин; он терся головой о бедра хозяйки.
Я часто думал потом об этой женщине. Иногда я пытаюсь вспомнить свои мысли, но мне это не удается. Однако я помню жалобную песню, прерванную моим появлением, будто слышал ее вчера, в зарослях, где мадемуазель Родогуна была, как ей казалось, одна со своим бараном, под палящими лучами солнца:
Мое бедное тело устало
Я хотела бы лечь в кровать
Из лилий и роз одеяло
Я могла бы себе соткать
И фиалки бы я собирала
Для сна тюфячок набивать
И если бы вдруг в постели
Я случайно заснула одна
Все бы вороны с неба слетели
Испить моего вина[1].
При чем тут вороны — не вполне ясно. Возможно, их появление объяснилось бы, если бы она продолжала петь. Другой важный вопрос, на который я не могу ответить: для кого пела Родогуна? Для себя или для барана? Уж конечно, не для меня.
Каталонец, с которым я сблизился (некий Манолино Риба, его попросту называли Маноленом), пересказал мне то, что говорили на солеварне об отшельнице и ее странной близости с рогатым исполином.
— Они едят вместе, — поделился он со мной, — и, хотя в домишке на берегу у нее есть спальня, она чаще ночует на соломе в хлеву, чем в человеческой постели. Женщина, принявшая скотину, — оскорбление для мужчины. Она несет с собой зло везде, где появится. Сколько ни насмехайся, как ни показывай рожки, бес не покидает ее, выглядывает у нее из глаз. Чтобы выгнать его оттуда, рыбьей крови недостаточно, надо с головы до ног окатить эту дрянь настоящей горячей кровью.
Несмотря на смутные толки, которым, впрочем, не слишком верил, я не упускал случая заговорить с мадемуазель Родогуной. Я нимало не пытался за ней ухаживать, и понемногу она оттаяла и, казалось, привыкла ко мне, но каталонцы, едва завидев издали меня в обществе женщины с бараном, принимались издеваться. Они шумно принюхивались или зажимали нос, как будто от меня несло стадом; они дразнили меня, блеяли, посылали к воображаемым овечкам; они наставляли на меня растопыренные пальцы, отгоняя злых духов. Манолен, если оказывался среди них, притворялся, будто со мной незнаком. Сардинцы — те молчали, рожки показывали исподтишка, но подолгу смотрели на Родогуну, и в их взглядах можно было прочесть все, что угодно, только не доброжелательность и не сочувствие.
Из любопытства, которое не делает мне чести, я хотел узнать, кто она, откуда, узнать, каким образом она оказалась на этом острове, но не смог вытянуть из нее никаких сведений, она замыкалась в грустном молчании, уходя от расспросов. Она не была злопамятной, и ее настороженность таяла, как только я переставал допытываться. Манолен, хоть с ним и откровенничали старые рабочие, поступившие на солеварни задолго до появления девицы, был осведомлен не лучше. Все, что он смог мне сказать, заключалось в следующем:
— У нее поблизости от Марселя есть родные, они ей помогают. Первого числа каждого месяца она переправляется на материк, чтобы получить почтовый перевод.
В самом деле, мадемуазель Родогуна, должно быть, не лишена была средств к существованию: я никогда не видел ее за работой, если не считать того, что она стирала свою одежду и белье, убирала в доме и в хлеву и готовила себе пищу, состоявшую главным образом из рыбы и риса с луковым соусом, плодов, молочных продуктов и меда.
Она редко позволяла убить для себя цыпленка и никогда не притрагивалась к мясу с бойни.
Со стороны наши разговоры показались бы пустыми. Однако мне самому не кажутся пошлыми те беседы, колыхавшиеся, словно паутинка от легчайшего ветерка, вместе с малейшими переменами настроения. Можно ли сказать, что ветер перебирал струны наших разговоров? Я любил их больше всего на свете и никогда не мог объясняться таким образом с собеседниками мужского пола; иногда мне удавалось это в обществе «милых прелестниц», но ни с кем я не чувствовал себя так свободно, как с Родогуной. Мы редко заговаривали о баране, разве что восхищались его красотой, и мне в голову бы не пришло заговорить о его кротости, хотя он был необыкновенно послушным. Я выказывал к нему величайшее уважение и на словах, и в своих поступках, зная, что доставляю этим удовольствие Родогуне и что обратное глубоко опечалило бы ее.