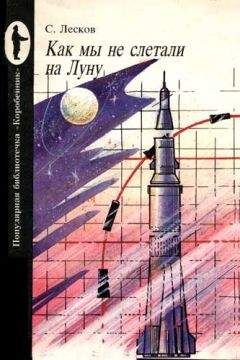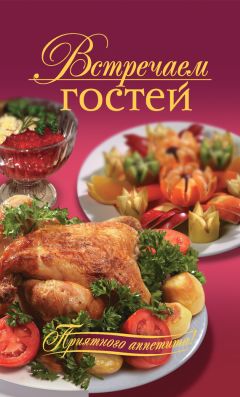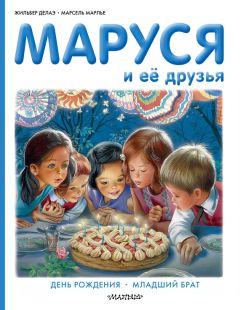Андре Пьейр Де Мандьярг - Огонь под пеплом
Лицо напротив нее тоже менялось. Оно вытягивалось, делаясь еще более лошадиным с его жирным синеватым блеском кожи, выпуклыми глазными яблоками, жесткой челкой, отвислой губой. Удары словно пробили брешь в теле девушки, ее лицо отступало, дрожало, «кренилось», как сказал бы моряк, хотя под своими ладонями Флорина чувствовала по-прежнему твердое тело. Потом — словно погасла лампа — девушка закрыла глаза. Флорина увидела, что она в самом деле заснула в ее объятиях, и с этой минуты они перестали существовать в общем пространстве. Против собственного желания, против воли Флорина, не удержавшись, открыла глаза.
Кошмарное пробуждение: кругом была светлая лунная ночь. Она не лежала, как думала, в своей постели, она тряслась с крепко стянутыми за спиной руками, со связанными ногами на дне разболтанной двуколки, которая подскакивала на буграх и выбоинах дороги (и дерево стонало: «ух! ух»), а пустые бидоны и ящики сталкивались и грохотали, словно барабаны и тарелки. Ветер завывал в ветвях над дорогой. Плотно набитый мешок с известью или гипсом при каждом толчке бил ее по животу. Перед ней чернели мощные плечи двух расположившихся на сиденье мужчин. Один молча правил, и другой к нему не обращался. Как они схватили ее? Вероятно, чем-то одурманили, и потому она спала таким тревожным сном, потому проснулась так поздно и ничего не помнит о том, что с ней случилось. Или это сейчас она видит сон?
Она снова закрыла глаза, по привычке толкнула мешок животом, надеясь выбраться из этого дурного сна и оказаться наконец в своей постели или вернуться в бальный сон к бразильцам. Но нет, ей это не удалось, может быть, не хватило времени, ничего не изменилось, и двуколка стала. Они положили ее перед ямой у обочины длинной, прямой и пустынной лесной дороги, рядом с ней положили белый в лунном свете мешок. Они не развязали ее; они не прикасались к ней без необходимости. Должно быть, обо всем условились заранее, потому что не произнесли ни единого слова. Она увидела: каждый достал свой нож и открыл его; она почувствовала: два лезвия разом вонзаются в ее левый и правый бок, выходят, затем ощутила, как воздух вытекает у нее между ребер. «Бразильцы?» — подумала она еще, стиснув зубы, а потом обмякла, и все кончилось.
РОДОГУНА
Пьеру Клоссовски
…Большой белый как снег олень стоял между Актеоном и божеством; и, накрыв спину лесной богини, рогатый царь входит в свои владения.
Пьер КлоссовскиВ пустые сараи брошенной солеварни любой может войти беспрепятственно. Двери не запираются, потому что украсть нечего (или уже и дверные замки украли), и там, под этой крышей, залатанной тростником, паклей и варом, каждый разгуливает себе свободно среди пришедших в негодность котлов, потерявших колеса вагонеток, разбитых горшков и больших выбеленных водой и ветром кусков дерева, в темноте похожих на кости доисторического животного. Даже летом здесь сыро — камень и дерево так сильно пропитаны солью, что бесконечно удерживают мельчайшую утреннюю росу; металл изъеден ржавчиной, намокшая корка отстает большими кусками; земля немного липнет к подошвам.
Может, и водятся здесь мелкие твари, но они не подают признаков жизни, их не видно и не слышно. Если же говорить о тех, кого со слабым оттенком уважения именуют родом человеческим, Валентин Сорг — единственный его представитель, пожелавший укрыться от жары в часы полуденного отдыха.
Наш человек устроился на куче мешков (или обрывков мешков), в свое время послуживших постелью бродягам, хотя соляной остров — не слишком людное место; ноги он тоже прикрыл жесткими и рваными мешками, скорее пытаясь создать приятную иллюзию одеяла, чем для защиты от легкого озноба, вызванного контрастом с уличной жарой. Из своей котомки он извлек жалкий завтрак: тощие маслины, какие растут на диких деревьях до того, как прививка улучшит плоды, да твердые, зубы можно обломать, морские сухари; к счастью, красное вино восполняет скудость пищи. Забрызганные купоросом переспелые грозди, собранные у обочины, — худшая часть завтрака, который ими и завершился. За распахнутой дверью ослепительный день; тень чуть отступила от порога.
Поев и опорожнив бутылку, Валентин растягивается на мешках, но для послеобеденного сна он недостаточно насытился, и им овладевают грезы; он закрывает глаза, словно натягивает экран для лучезарных воспоминаний.
Странную власть надо мной имеют некрашеное дерево, старое железо и штукатурка, — рассуждает он. — Они способны овладеть моими помыслами, заставить их устремиться к женщине, неважно какой. Сам не знаю почему, но эти грубые строительные материалы крепче, чем роскошное обрамление, теснее, чем золото и зеркала, бархат, шелк и даже мех, связаны в моем сознании с неизменной прелестью этой извечной игрушки. Разве мог я когда-нибудь устоять перед жалкой притягательностью фонарей на длинных бараках, подобных обросшим мхом и плющом баржам, на опушке Арденнского леса? И я помню еще веселый дом в Синистрии, постройку из чистых еловых досок в виде шестиконечной звезды или, как ее называют, печати Соломона. В центре звезды торчал молодой ствол с обрубленными ветками, но крепко державшийся за землю корнями, — колонна храма и ось постройки; на него была насажена тяжелая, грубо вырезанная голова кабана, выкрашенная в ярко-красный цвет. Нелепые Самсоны раскачивали ствол, меряясь силами. Туда ходили главным образом старьевщики, рывшиеся неподалеку на свалках последней войны, и светскими манерами в салоне и не пахло. То и дело гости расплачивались товарами и одобрительным ревом встречали неизбежную шутку — сотню патронов в награду тому, кто за три минуты опростает свои гильзы… Тряпичники, я завидовал вашим остротам, успеху вашей безмерной любезности… Не дурак ли я! Ах, если бы вынырнуть, оставив на самом дне себя воспоминание о синистрийских свиньях, о ярко-алой кабаньей голове над звездой Соломона.
Имя женщины с этого острова, до которого я так долго добирался, перешел вброд два маленьких пролива (а через последний, более глубокий, меня перенесла на холодной спине волна) — Родогуна Ру. Я помню это совершенно точно. И для того чтобы ее ни с кем не спутали, ведь так могли зваться и другие — старухи, оборванные девчонки в двух-трех лачугах, смотрящих окнами на материк, я сделаю ее владычицей соляного острова. Царица Родогуна… Как повеяло Востоком от нескольких слогов! Словно бледный полумесяц над рассыпавшимся в прах глиняным городом, некогда посвященным Иштар, этот титул, данный мною в шутку, окутывает сиянием легенды одинокую девушку и ее жестокую повесть. Я рад тому, что не было, нет и не будет между ней, Родогуной в страшном кровавом ореоле, и мною — тем, кто валяется теперь как собака на этих прогнивших мешках, — ничего даже отдаленно напоминающего предмет вольных шуток наших славных французов, одним словом, ничего эротического. Я благодарен за это богам Средиземноморья и всем богам иудейского и греко-латинского мира, а также, разумеется, божествам Аравии и еще Сардинии, такой же неприступной, как высокогорья Центральной Азии.
«Жестокая повесть», сказал я, как будто можно и в самом деле узнать чью-то историю, кроме своей собственной. Желторотым дураком был я тогда, и навсегда останусь таким (но из какого мерзкого гнезда выпавшим?). И что толкает меня, Валентина Сорга, почти оборванца, полуголодного и совершенно трезвого, повисшего между сном и грезами и лишенного общества, если не считать больших назойливых мух, соперничать с романистами, профессиональными лжецами, у которых ни в одном слове, от первого до последнего, нет и крупицы достоверности. Картинки — вот и все, что я хочу припомнить, прочего в точности не передать, а полумрак располагает скорее созерцать, чем баюкать себя выдумками. К тому же, должен признаться, я пребываю и, несомненно, останусь в полном неведении хода событий, первоначального плана или истоков этой кровавой драмы, застрявшей в моем сознании светящимися осколками витража, поскольку мадемуазель Родогуна, единственная, кому это известно, — самая неразговорчивая, замкнутая и отбивающая охоту любопытствовать из всех женщин, которых я знал в своей бродячей жизни.
В первый раз я увидел Родогуну Ру несколько лет назад. Для полноты картины надо знать, каким сам я был в то время, и тогда встает другой вопрос: каким я стал теперь? Но среди разнородных обломков, составляющих всю обстановку моего соляного склада, не найдешь даже осколка зеркала, как ни ищи, и тем лучше: в нем я увидел бы лишь еще один жалкий завалящий обломок. Что касается внутренней жизни этого малого, то, пока это в моей власти, я позволю ему пребывать лишь в трех состояниях: усталости, опьянения или мечтательности. Довольно об этом. Будем благоразумны, вернемся к прошлому.