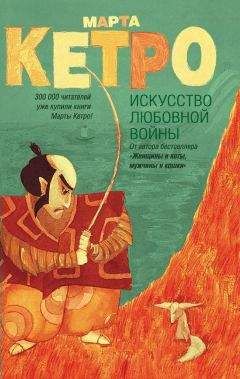Денис Драгунский - Каменное сердце (сборник)
Маша сначала ежилась от таких слов. Но потом привыкла, научилась загадочно улыбаться и даже болтать с соседями по высокому столику на фуршете – так, ни о чем, легко и мимоходом. Прижилась в доме. Починила звонок, сделала на калитке цифровой замок с домофоном. Стала покрикивать на домработницу и шофера. Требовала, чтоб ее называли Марией Ивановной.
Домработница и шофер подстроили так, что у Маши на глазах Ивана Петровича из сумочки выпала миниатюра XVIII века, портрет князя Матвея Радзивилла в генеральском мундире, в рамке тех времен из настоящего золота (ведь Иван Петрович был, помимо прочего, коллекционер) – то есть так подстроили, чтобы Маша оказалась воровкой. Но Иван Петрович в это не поверил, а домработницу и шофера выгнал. И совершенно зря, потому что остался наедине со своей «ошибкой молодости», безо всякой защиты и даже без свидетелей.
Но когда он внезапно умер неизвестно от чего, завещав всё своей дочери Маше, из Америки свалился его сын с целой командой юристов. Он живо доказал, что завещание фальшивое, дом и коллекцию продал, а Маше велел катиться на все четыре стороны.
Маша его поцеловала, обхватила левой рукой за шею, а правой попробовала залезть к нему в брюки, но он отпихнул ее и сказал:
– Не, не, ты что. Неудобно. Сестра всё-таки. И люди ждут.
Маша стала объяснять и клясться, что она всё наврала, что она никакая не дочь Ивана Петровича, а просто всё сочинила от нужды и горя, но он не поверил.
– Сказано, катись!
Она горько заплакала, и он дал ей на прощание двадцать тысяч долларов наличными. Он как раз получил с покупателя два миллиона, тоже наличными, и собирался везти деньги в банк, и в прихожей его ждали охранники с автоматами. И вот он вытащил из сумки две пачки и дал ей. Ну, хоть что-то. Она даже сказала «спасибо». А он подвез ее до станции электрички.
Потом в самолете, привольно раскинувшись в кресле бизнес-класса – первый раз в жизни летел бизнесом, вот черт! – он вдруг подумал: «А интересно, эта тварь на самом деле моя сестра?» Но через полминуты эти мысли навсегда испарились из его головы, вместе с клочками памяти об отце, матери и старом доме в Петровой Роще.
Писатель и редактор
Один человек вдруг решил стать писателем.
«Все пишут, а я что – хуже всех?» – подумал он и довольно быстро написал толстый роман. Послал его в издательство по почте. Три месяца прошло, он позвонил, ему сказали, что еще рано. Через полгода позвонил – сказали, что тот редактор уволился, а новый еще не прочитал. Потом новый тоже уволился.
В общем, прошло четыре года.
Или пять. А может быть, даже шесть. За эти годы писатель успел опубликовать свой роман в толстом журнале, издать отдельной книгой, напечатать его по-фински и по-немецки и получить премию имени Ганса Фаллады. Кроме того, он выпустил еще два романа и три сборника коротких повестей.
Вдруг звонок. Совсем юный голос:
– Я могу поговорить с Ярославом Авдеевичем?
– Слушаю вас.
– Здравствуйте, Ярослав Авдеевич, меня зовут Карина, я новый редактор подотдела современной романистики отдела русской прозы. Мне ваша рукопись, так сказать, по наследству досталась. Я прочитала.
– Ну и как? – спросил он.
– Не годится, – сказала она.
– А… а почему?
– Очень плохо написано, – жестоко ответила эта самая Карина.
– Вы уверены? – возмутился писатель, потому что за эти четыре или пять, а может, и шесть лет он успел привыкнуть к похвалам. К восторгам поклонников и лести рецензентов.
– Увы, – сказала она. – Абсолютно.
– Может быть, вы мне объясните, чем именно мой роман плох? Я всё понимаю, вы не обязаны, рукописи не возвращаются и не рецензируются, но… Но я ждал ответа целых пять лет! А может, даже шесть! Я уж счет годам потерял!
– Хорошо, – вздохнула она. – Приходите. Поговорим. Вторник – пятница с десяти до шести, комната 3–12. Только не обижайтесь!
– Постараюсь, – сказал он.
Он пришел в издательство назавтра. А для разговора на всякий случай перечитал свой роман, освежил в памяти.
В коридоре он наткнулся на своего старого институтского друга.
По всем законам жанра, друга вчера назначили главным редактором этого издательства. Друг полез обниматься, а потом взял писателя за руку и потащил в комнату 3–12. Закричал с порога:
– А вот кто к нам пришел! Кариночка, знакомься. – И он назвал его имя, отчество и фамилию. – Крупный мастер современной прозы! Кариночка, он не откажет такой красивой девушке, попроси его, пусть он нам чего-ни-то напишет.
– Карина уже читала мой роман, – сказал писатель.
Роман как раз лежал у нее на столе. Задрипанная распечатка.
– О! – сказал друг, который главный редактор. – Прекрасно!
– Ей не понравилось. Она считает, что роман не годится, – жестоко сказал писатель, глядя прямо в глаза юной редактрисе.
– Это еще что за дела? – сморщился главный редактор.
– Извините, – прошептала Карина.
– Она права, – сказал писатель. – Вы правы, душа моя. Я всю ночь читал. То есть перечитывал. Мне тоже не понравилось.
Взял роман со стола, бросил его в мусорную корзину и вышел.
А потом позвонил этой самой Карине и пригласил ее в ресторан. Но она отказалась, потому что у нее был жених и скоро свадьба.
И правильно.
Слепая поэтесса
Приснилась дача – такая, какую я видел, может быть, в свои пять или семь лет, когда мы с мамой-папой-бабушкой снимали «комнату и веранду» где-то по Казанской дороге, в старых поселках, в старинных сыроватых домах с сортиром на улице, с душем в виде черной бочки, поднятой на высоту двух метров на деревянных столбах, к которым прибита клеенка в виде занавески.
Вот такая дача: большой, до ужаса захламленный дом – продавленные диваны, шаткие столы, застеленные линялыми скатертями и заставленные посудой: щербатыми чашками с недопитым чаем, тарелками с недоеденной картошкой, прикрытой блюдцем, а сверху наброшена серая от многократной стирки марля – чтоб мухи не садились; баночки с молоком, полупустые бутылки то ли с вином, то ли с морсом, неясного лиловатого цвета; и конечно, привязанный к ручке приоткрытой форточки марлевый мешочек с самодельным творогом, из него стекает сыворотка в миску, стоящую на подоконнике: в миске вяло шевелит лапками еще живая муха.
Участок большой, окруженный редким штакетником, весь засаженный крыжовником и смородиной – кусты в рамках из тонких реек; хилые вишни и яблони, беленые внизу и подпертые палками, которые вкопаны в землю – в чистую от травы землю с прокопанной вокруг канавкой для полива – и прикручены мочалом к стволам. Грядки с клубникой. Желтеют зонтики перестоявшего укропа. У края веранды, под водосточным желобом – большая бочка для дождевой воды, огурцы поливать. Огурцы любят отстоявшуюся дождевую воду.
Ведрышки, лопатки, цапки, грабли, лейки.
Клумба с ирисами. Гамак, привязанный к двум березам. Рядом раскладушка на маленьком островке дикой травы.
Вот на этой даче мы живем в такой компании: я, жена, взрослая дочь и мой папа, который, как ни странно, жив – ведь все происходит в наше время – жив, но очень дряхл. Но все-таки ему не сто два года, как должно было быть, если бы все было прямо сейчас. Что-то странное со временем: дача точно такая, как в те времена, когда мне было пять, а папе сорок два – но папа старенький, я большой, у меня жена, дочь тоже совсем большая – и, самое главное – мамы нет.
Мама умерла – я это знаю во сне, – а папа жив.
Хотя на самом деле всё было наоборот – папа умер, а мама прожила потом еще целую жизнь, тридцать пять лет после его смерти.
Но снится вот так.
Мне снится, что на нашу дачу, в неизвестно почему распахнутые ворота – вдруг въезжает серая, старая, разбитая, забрызганная пригородной грязью машина «Волга», старая модель, ГАЗ-24, но не совсем старая, не ГАЗ-21.
Машина въезжает по колее, присыпанной мелким гравием, и останавливается перед верандой, где мы все сидим и кто чем занимаемся – жена читает, я ем варенье из банки, накладывая его ложечкой на кусочки хлеба, дочка что-то делает в компьютере, а папа смотрит телевизор, который стоит тут же.
Из машины выходит женщина лет сорока – пятидесяти, крашеная блондинка, со старомодной прической – пышно уложенные косы. В народе называлось «хала». Но эта хала у нее немытая и слегка скособоченная, поддержанная парой небрежно воткнутых шпилек. У нее в руках большая сумка на молнии.
Она входит на веранду и сразу начинает говорить:
– Я хочу рассказать вам о Светлане Петровне Савиной. Она поэтесса. Она очень талантливая поэтесса. Но она слепая. Поэтому она диктует свои стихи. Она написала, то есть надиктовала, то есть создала несколько книг стихов, вот, я могу вам показать!
Она вынимает из сумки тонкие брошюрки в загибающихся глянцевых обложках; такие обычно издаются за счет автора, если автор совсем небогат.