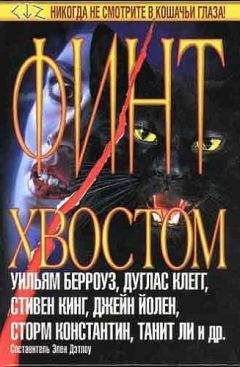Зильке Шойерман - Богатые девушки
Он опускал монеты в автомат, расплачиваясь на выезде за стоянку, когда к нему обратилась какая-то женщина:
— Якоб?
Несколько мгновений он не мог понять, где она находится, прежде чем увидел, что она стоит прямо перед ним. Это была его бывшая сокурсница Сара Беннерт, одна из пяти девушек на инженерном факультете, она близко познакомилась с одним из однокашников, съехалась с ним и потом, хотя и закончила курс, ни одного дня не работала по специальности. Они знали друг друга весьма поверхностно, при встречах болтали о пустяках, но сейчас он не испытал никакой радости.
— Сара, прости, я спешу. Мы можем созвониться.
— Ты выглядишь… очень усталым…
— Мы с Моной разошлись.
— Мне очень жаль… Ты все еще живешь в своем доме? Тебе надо переехать оттуда, сменить обстановку, — вещала она с лицом феи несчастья, специализирующейся на разводах: она говорила не пошло, но очень по-деловому. Губы у нее были большие и красные, волосы цвета светлого дерева — полная противоположность Моны и совсем не в его вкусе. Я не буду никуда переезжать, подумал он. В конце концов, это мой дом.
Как только они распрощались, он забыл об этой встрече. Сев за руль, он обнаружил, что руки у него замерзли так, что он едва смог вставить ключ в гнездо зажигания. Огни расплывались перед его утомленными глазами. Уже дома, занявшись приготовлением кофе, он принялся рассказывать ребенку, как познакомился с Моной, как молода она была тогда, как отвечала всем его представлениям о женщине, потом, отхлебывая горячий кофе, он, между глотками, рассказывал, как они въехали в этот дом, как между ними началось отчуждение, которое иногда наступает между любящими, а иногда — нет, «здесь оно, знаешь ли, наступило». Он вспотел, вероятно, озноб, прохвативший его в машине, был первым симптомом гриппа. Потом он принял горячую ванну. Одеваясь, он заметил, как изменилась его кожа, складками свисала она на животе и на бедрах; он удивился — как может похудеть человек всего за какой-то неполный месяц.
Целыми днями он не выходил из дому, ел то, что оставалось в кладовой и в холодильнике, каждый раз доставая из шкафа новые тарелки и чашки; как же невыносимо много хлама у них накопилось, думал он. Иногда он поражался тому, как много поступает звонков, ведь обстоятельства уже давно изменились, чего, естественно, не могли знать все эти люди.
Раз начавшись, разговор с ребенком, точнее, обращенный к нему монолог продолжался, не прерываясь. Якоб даже не подозревал, сколько всего он может рассказать, теперь он рассказывал ребенку о своем детстве, хотя он мало что сохранил от той последовательной безнадежно сентиментальной лжи, которую многие другие вставляют в рамку и называют детством.
По ночам его организм попеременно играл с ним то в войну, то в мир. Он мог бы поклясться, что все вокруг скользит и движется, стараясь принять новую форму, но из этого, правда, ничего не выходило.
В фазу войны он чувствовал себя парализованным, до полудня валялся в кровати, а потом вставал и принимался разыгрывать церемониал прощания. Он собирал принадлежавшие ей вещи, складывал их в картонные коробки и относил в подвал, а из подвала опять наверх, он рвал и резал фотографии, а потом снова склеивал их, облизывал пальцы и гладил себя, заставляя расти и распухать свой смехотворно мягкий член, закрывал глаза и представлял себе Мону, сначала он просто ее воображал, но теперь он стал и в самом деле с нею спать. Иногда он без церемоний укладывал ее голову на свое мягкое естество, «сделай что-нибудь», говорил он, «ну же», и она брала его в рот, играя узловатой, оттянутой кверху крайней плотью — выделявшейся светлым пологом над светлой красной головкой, он чувствовал, как член набухает, становится в ее руке все тверже и тверже, она давит все сильнее, и они ложатся рядом. В тот миг, когда молочная клейкая сперма повисала на ее курчавых волосках, он слышал явственное хихиканье ребенка в углу и торопливо натягивал трусы.
Фазы мира бывали намного короче. В такие моменты он подходил к телефону, включал его в розетку, выслушивал пару-другую записанных сообщений, стирал те из них, которые были обращены не к нему, потом звонил в свою контору, куда не ходил, отговариваясь болезнью. Мало того, он смог даже принять несколько рабочих решений, необдуманных, интуитивных решений, которые, как он от души надеялся, окажутся верными. Он вытряхивал корм из коробок в кошачью миску, оставлял Саскии сообщения, ему становилось лучше, он пытался в какой-то — пусть минимальной — мере овладеть собой и справиться со смятением, но это быстро его истощало, и он снова прятал голову, как черепаха. Он чувствовал, что там, под панцирем, его ожидает боль, он словно вползал в нее, почти с облегчением, настолько привычной для него она стала. Утешением ему стали служить простейшие вещи, каждый вдох казался невероятной удачей. Он заказывал еду в «Азия-Экспресс». Разорвав фольгу, он наслаждался аппетитным видом мяса и овощей, но стоило только взять это в рот, как он убеждался в отвратительном вкусе и отставлял лоток в сторону. Он начал набрасывать эскизы прощального подарка Моне и сделал зеленый салон в кукольном доме — салон выглядел, как костюмерная в замке Гогеншвангау — они видели это великолепие, когда ездили в Баварию. Тот салон очень понравился Моне, несмотря на то что был скромнее остальных покоев. Он не стал пользоваться готовой краской, составив особый зеленый тон, который он, помнится, видел на кофейной чашке, комнатка блестела и сияла, выглядела причудливо-фантастической на фоне пастельной и естественной цветовой гаммы дома. Видишь, торжествующе сказал он ребенку, видишь? Зеленый.
Вместе с потом вышел избыток алкоголя и симптомы гриппа, пот высох очень медленно, потом сухо стало и во рту. Наверное, поэтому он стал меньше говорить с ребенком. Ночами ему стали сниться совершенно невероятные, фантастические сны, стены из резины, принимавшие форму его тела, превращаясь в кровати, тюремные клетки и гробы, головы, заглядывавшие в окно, смеющиеся и плачущие, если смотреть на них сбоку. Они, эти головы, смотрели на него, как члены какой-то сверхъестественно жуткой семейки.
Чего, в конце концов, хотела от него Мона? Он отомстил ей, отыгравшись на кошке, которая очень к нему привязалась. Он взял ее на чердак, открыл окно и стал выталкивать на улицу, а она изо всех сил цеплялась когтями за каменную стену. Он закрыл окно. Он не пустит ее назад, сколько бы она ни мяукала.
Потом у его дверей стояла Сара Беннерт — смущенная, с прической «конский хвост», трепетавший на зимнем ветру. Он совершенно о ней забыл.
— Как поживаешь? — спросила она.
— Пью. Сплю — иногда. Собрал весь ее хлам и отправил на адрес ее матери, куда она, скорее всего, уползла. Я изрезал ее фотографии, а потом опять их склеил… — Он замолчал и перевел дух.
Она не уходила, и ему пришлось разделить с ней последнюю банку солодового пива. Она вещала, как по писаному, хотя рассказывала о себе.
— У меня всегда было такое чувство, что я бросила универ только из-за него, и подсознательно постоянно ему об этом напоминала. С другой стороны, я тоже не во всем виновата. Кроме того, он мне изменил. Мона тебе когда-нибудь изменяла?
— Не знаю. Хотя все-таки… нет, не думаю. — Он чувствовал страшную усталость. Она пришла, чтобы предложить ему помощь — помощь брошенной брошенному. Безо всяких церемоний она начала раздеваться. Он смотрел на ее обнаженное, цвета светлого дерева, тело, на плечи с едва заметным цветовым переходом между волосами и кожей, он смотрел на нее всего на мгновение дольше, чем требовалось на то, чтобы она восприняла его взгляд как комплимент. Радость от подарка, наверное, выражают после испытанного болезненного неудобства. Однако она не перестала улыбаться и даже призывно раскинула руки, он бросился к ней, поднял и так тесно прижал к себе, что проникновение оказалось слишком глубоким. Лицо его исказилось от боли, он отвел взгляд в сторону. Он увидел ребенка и его ухмылку. Он закрыл глаза и опрокинул тело, которое держал в руках, на спину, чтобы узнать, закричит ли Сара, когда ей будет больно. Она жалобно застонала.
— Думаю, ты пока не оправился, — сказала она уязвленным, но делано нейтральным тоном, когда они потом пили вино. — Но когда оправишься, позвони.
— Хорошо, — ответил он.
Когда она ушла, он открыл окно и уставился в зимнее небо цвета метиленовой синьки, как будто Мона умерла и душа ее незримо витает среди облаков.
Теперь не хватало только освещения, электрической проводки, последней точки над «i». Для этого надо было разместить и прикрепить лампочки, а соединенные в одну связку провода вывести на заднюю стенку и подсоединить к трансформатору. Сначала он хотел подключить все провода к одному распределительному щиту, но это ему не удалось, щитов потребовалось больше. Полосками клейкой ленты он закрепил свободные провода, скользившие между пальцами. Он поднял глаза и заметил расплывающийся силуэт ребенка, это очень напоминало прощание.