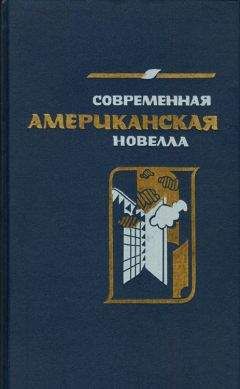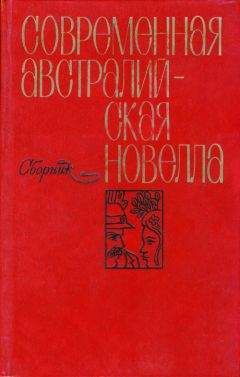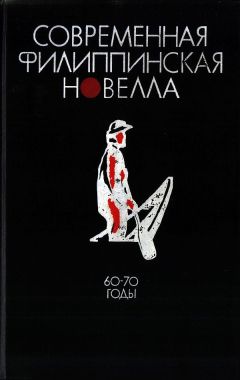Луиджи Пиранделло - Благословение
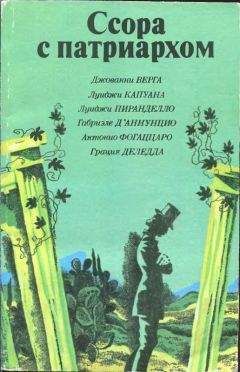
Обзор книги Луиджи Пиранделло - Благословение
Луиджи Пиранделло
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Не могу понять, что это за люди! — по крайней мере, раз двадцать на дню повторял дон Маркино, негодующе поднимая плечи и выставляя вперед растопыренные руки, при этом углы его рта опускались. — Не могу понять, что это за люди!
Дело в том, что люди эти в большинстве случаев вели себя не так, как вел бы себя он, и почти всегда осуждали все, что он делал и что казалось ему правильным.
Видит бог, по какой-то непонятной причине прихожане Стравиньяно с первого же дня стали относиться к нему недоброжелательно! Они никак не могли простить ему, что он безжалостно вырубил (разумеется, с соизволения начальства) дубовую рощу, которая некогда возвышалась в лощине за церковью и ничего не давала приходу. Не могли они спокойно относиться и к его благословенной усадьбе, и к уютному флигельку из четырех комнат, который он выстроил на деньги, вырученные от продажи деревьев; флигелек этот примыкал к церкви с одной стороны, а с другой находился одноэтажный домик, где жил сам дон Маркино и его сестра Марианна. Но разве часть этих денег не была употреблена на содержание церкви? И что тут плохого, если он каждое лето сдавал флигелек какой-нибудь семье, приезжавшей провести жаркое время года в Стравиньяно?
Как видно, жителям Стравиньяно обязательно хотелось, чтобы их приходский священник был беднее, чем святой Иов. Но возмутительнее всего было то, что, с одной стороны, они хотели видеть в нем служителя для всех, а с другой — не дай бог, если его встречали с мотыгой в руках или на пастбище! Как видно, они боялись, что он запачкает рясу или же руки его, которым предстояло прикасаться к святому причастию, покроются, чего доброго, мозолями! Но не мозолей на руках следует страшиться, а нечистой совести, да, нечистой совести.
Дон Маркино был прав, но… если бы он только мог себя видеть! Впрочем, и тогда ему не пришло бы в голову, что у него, как и у его сестры Марианны, ноги походили на гусиные лапы и оба они переваливались на ходу, совсем как гуси; брат и сестра были одинакового роста, тучные и, казалось, лишенные шеи. Дон Маркино, надо думать, не прислушивался к своему голосу, а если и прислушивался, то ему не казалось, что его гнусавый, вечно простуженный голос походил на кошачье мяуканье. А ведь неприязнь прихожан в большей степени зависела от этих его особенностей, в которых он не отдавал себе отчета, — от телосложения, голоса и манеры разговаривать с людьми.
Приходили к нему, скажем, среди ночи просить ослицу и одноколку, чтобы срочно привезти врача из Ночеры, — дон Маркино в таких случаях неизменно отвечал:
— Да тебе на ней не доехать. Ты рискуешь, любезный, сломать шею, ведь она тебя непременно два или три раза перевернет, хорошо еще, если только три раза, а не больше.
Разговаривая, он то и дело пересыпал свою речь острыми словечками, которые слышал бог знает когда и от кого, но повторял он их кстати и некстати и вовсе не из пристрастия к острословию. Ослица и впрямь была норовиста, настолько норовиста, что дон Маркино в самом деле не решался без боязни одалживать ее. Видит бог, сколько раз она даже ему не позволяла посадить кого бы то ни было в одноколку! И, чтобы она не кусалась и не лягалась, когда он седлал или запрягал ее, приходилось прибегать к бесконечным уловкам, называть ее самыми ласковыми именами и отечески втолковывать ей, что необходимо проявлять терпение и покорность, коль скоро господу богу было угодно сотворить ее ослицей.
— И немудрено! — говаривали в Стравиньяно.
Эта ослица, за которой почти все время присматривал дон Маркино, куры и три борова, за которыми ходила его сестра Марианна, две коровы, которых пасла босоногая служанка Роза, — все они, постоянно видя перед собой хозяев, походивших как две капли воды на гусей, невольно должны были почувствовать в них родственные существа. Вот почему животные и вели себя так, как ни за что не посмели бы вести себя у других хозяев. И все потешались, видя, как эти дурно воспитанные животные не проявляют никакого уважения к приходскому священнику и его сестре, как три огромные молочно-белые свиньи, возможно, без злого умысла обижают Марианну. А с каким отчаянием она по утрам разыскивала яйца, которые куры, словно нарочно, прятали от нее, несясь каждый день в другом месте. У всех этих кур лапки были повязаны тряпочками, чтобы их, упаси боже, не подменили!
— Почему бы вам, донна Марианна, не привязать и поросятам голубые бантики на хвосты?
Судите сами, пристойно ли обращаться с такими речами к несчастной сестре бедного приходского священника, который никому ничего дурного не сделал? Эх… И дон Маркино негодующе поднимал плечи и выставлял вперед растопыренные руки, при этом углы его рта опускались и он повторял:
— Не могу понять, что это за люди!..
Больше чем когда-либо было у него причин повторять это свое излюбленное выражение в тот день, когда он отправился в Ночеру на скотный рынок.
Дон Маркино не собирался ни продавать, ни покупать; он поехал только для того, чтобы поглядеть да послушать: у него в этом году кончался контракт с крестьянами, работавшими на церковной земле, которыми он был недоволен, — он уже объявил, что на будущий год наймет других, а теперь срок подошел. Здесь, на ярмарке, где собрались крестьяне со всей округи, ему нетрудно будет разузнать, кто покупает, а кто продает, что говорят о тех или о других.
И как раз те, кого никогда не увидишь в церкви, даже по большим праздникам, осуждали его за то, что он оставил свой приход и околачивается на ярмарке до самого вечера. Но это бы еще куда ни шло! Когда он уже уселся в одноколку, чтобы возвратиться в Стравиньяно, внезапно поднялся ужасный ветер, а в довершение всего ему повстречалась эта Нунциата, с мальчиком лет восьми на руках и тощей козой на поводу; именем господа бога она заклинала помочь ей.
Еще девчонкой, много лет назад, Нунциата была служанкой в доме священника; на глазах у дона Маркино она превратилась в самую красивую девушку в Стравиньяно, и он собирался выдать ее замуж за сына своего работника, славного малого, который был в нее влюблен. Но внезапно, так и не объяснив, в чем дело, Нунциата отказала этому юноше и вышла замуж за другого — крестьянина из соседней деревни в приходе Сорифа. С тех пор прошло девять лет; дон Маркино сменил за это время четырех работников и собирался сменить пятого, он и думать забыл о Нунциате, которая жила теперь в другом приходе. Поначалу в Стравиньяно говорили, что Она живет в Сорифе хорошо, что муж ее — усердный работник; затем пошли слухи, что ей приходится туго, потому что муж тяжело заболел почками: его придавило дерево, которое он пилил. Должно быть, болезнь зрела внутри, а потом вышла наружу, и у бедняги так распухли ноги, что доктор запретил ему работать и посоветовал лежать в постели; он нуждался в хорошем уходе, а кормить его можно было только молочными продуктами. Великолепные советы для того, кто живет своим трудом!
В этой женщине, походившей на нищенку, босой, в жалком, хотя, должно быть, праздничном платье, дон Маркино с трудом признал Нунциату. Между тем ослица, обеспокоенная свирепым ветром и суматохой, поднявшейся оттого, что крестьяне гнали скот, торопясь возвратиться домой до ливня, заупрямилась больше обыкновенного и ни за что не хотела стоять на месте. А Нунциата именно в это время вздумала слезно молить дона Маркино подвезти до Стравиньяно ее сынишку, который больше не мог держаться на ногах, — бедняжка был болен еще серьезнее, чем отец; на обратном пути в Сорифу она зайдет за ним. Дон Маркино, прилагавший героические усилия, чтобы сдержать ослицу, пришел в дикую ярость и, вытаращив глаза, завопил:
— Да ты в своем уме, дочь моя?
Ярость его возросла еще больше, когда несколько зевак, которые стояли вокруг и глазели на них, осмелились схватить под уздцы ослицу, чтобы дать ему возможность выслушать эту несчастную, дошедшую до отчаяния женщину, а затем, когда он стал отказываться, ссылаясь на буйный нрав своей ослицы, они принялись кричать, что ему должно быть стыдно, ведь он, черт побери, священник! Ослица? Да при чем тут ослица! Огреть ее раза два кнутом! Да натянуть как следует поводья! Бедная женщина… бедный малыш… вы только посмотрите на него — желтый как воск! А коза… о господи, что с ней такое? Да у нее можно пересчитать все ребра… Как, они из Сорифы? Она вела ее пешком из Сорифы? Собиралась продать? За сколько? Девять скудо?[1] Как, она заплатила за козу девять скудо!.. А теперь никто не дает и полскудо…
Ну разве не прав был дон Маркино, когда воскликнул:
— Не могу понять, что это за люди!
Какие обязательства у него по отношению к этой женщине, которая уже столько лет не была его прихожанкой? Христианское милосердие? Но это просто наглость! Нет, нет и еще раз нет! Это противоречит здравому смыслу. Какое еще там милосердие! Какая жалость! Сама мать должна была прежде всего пожалеть ребенка и не тащить его, тяжелобольного, в такую даль; ей-то уж совсем ничего не стоило его пожалеть. Ну нет, господа! Вместо этого принуждать человека совершенно постороннего к милосердию, связанному с огромными трудностями! Конечно, с огромными, огромными трудностями — в силу целого ряда причин! Легкое ли дело — больной мальчишка, который на ногах не стоит, да к тому же еще эта ослица… Да, да! Он должен это сказать, уж он-то ее хорошо знает! Эта ослица вообще не идет с поклажей, а особенно в гору, да еще при таком ветре. Нет, нет, прочь! Прочь с дороги… с дороги!