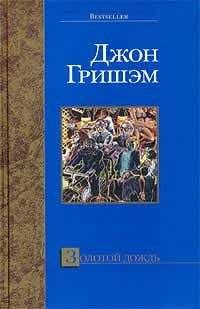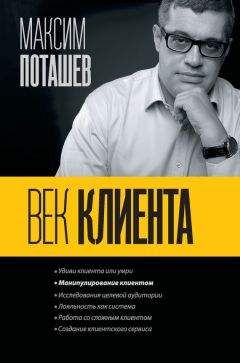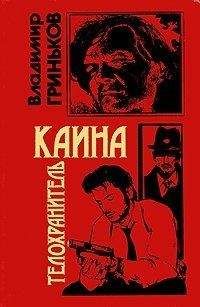Луиза Мэй Олкотт - Хорошие жены
На своем веку этот необычный старый сад послужил укрытием не одной паре влюбленных и, казалось, был специально создан для них – такой солнечный и уединенный, где не было никого, кроме башни, чтобы приглядеть за ними, и широкого, покрытого рябью озера, чтобы уносить отзвуки их голосов. Целый час эта новая пара гуляла и разговаривала или отдыхала на скамье, наслаждаясь взаимной близостью, что придает такое очарование времени и месту, и, когда прозаический звонок к обеду напомнил им, что пора покинуть сад, Эми почувствовала себя так, словно оставила там, в саду, весь свой груз одиночества и печали.
Как только миссис Кэррол увидела изменившееся лицо девушки, ее осенила новая мысль, и она воскликнула про себя: «Теперь все понимаю – девочка сохнет по молодому Лоренсу. Ну и ну, никогда бы не подумала!»
С достойной похвалы сдержанностью добрая леди ничего не сказала и не проявила никаких признаков осведомленности, но сердечно уговаривала Лори остаться, а Эми наслаждаться его обществом, так как это принесет ей больше пользы, чем такое долгое уединение. Эми была образцом послушания, и, так как сама тетя была очень занята Фло, она предоставила племяннице развлекать ее друга, что та делала даже с большим, чем обычно, успехом.
В Ницце Лори бездельничал, а Эми отчитывала; в Веве Лори никогда не был апатичным и ленивым, он ходил на пешие прогулки, ездил верхом, катался на лодке или прилежно учился, а Эми восхищалась всем, что он делал, и следовала его примеру насколько могла. Он говорил, что перемена в нем вызвана климатом, и она не возражала, радуясь, что тем же можно объяснить улучшение ее собственного здоровья и настроения.
Бодрящий воздух принес пользу им обоим, а активное движение благотворно повлияло на души, как и на тела. Там, среди вечных гор, они, казалось, обрели более ясное видение жизни и долга; свежие ветры унесли унылые сомнения, обманчивые фантазии и мрачный туман; под теплым весенним солнцем расцвели самые разные вдохновляющие идеи, нежные надежды и счастливые мысли; волны озера словно унесли горести прошлого, а величественные древние горы ласково смотрели вниз на них, говоря: «Дети, любите друг друга».
Несмотря на недавнее горе, это было очень счастливое время, такое счастливое, что Лори был не в силах нарушить словом его очарование. Он не сразу пришел в себя от удивления, обнаружив, что так быстро излечился от своей первой и, как он полагал, единственной и последней любви. Он оправдывал себя за кажущуюся неверность мыслью, что сестра Джо – это почти то же, что сама Джо, и убеждением, что было бы невозможно полюбить так быстро и так глубоко другую женщину, кроме Эми. Его первое ухаживание было бурным и стремительным, и он оглядывался на него, словно через долгую череду лет, с чувством сострадания, смешанного с сожалением. Он не стыдился его, но стал думать о нем, как об одном из горьких и радостных переживаний своей жизни, за которое он мог быть благодарен, когда боль утихла. Его второе ухаживание, решил он, будет как можно спокойнее и проще: не было никакой необходимости устраивать сцену, едва ли была необходимость говорить Эми, что он любит ее; она знала это без слов и давно дала ответ. Все произошло так естественно, что никто не мог выразить недовольства, и он знал, что все будут рады, даже Джо. Но если наша первая маленькая страсть была подавлена, мы склонны быть осмотрительными и неторопливыми, делая вторую попытку, и Лори не торопил время, наслаждаясь каждым часом и ожидая удобного случая произнести слово, которое поставило бы точку в первой и самой приятной части его нового романа.
Он, пожалуй, воображал, что признание произойдет в саду замка при луне и в самой изящной и красивой манере, но оказалось совсем наоборот – и все было сказано в полдень на озере в нескольких отрывистых словах. Все утро они катались на лодке – от мрачного Св. Джингольфа к солнечному Монтрё, с одной стороны – Савойские Альпы, с другой – Сен-Бернар и Дан-дю-Миди, прекрасный Веве в долине и Лозанна вдали на холме, а над головой безоблачное голубое небо и еще более голубое озеро внизу с множеством живописных лодок, похожих на белокрылых чаек. Они говорили о Бониваре[130], когда их лодка скользила мимо Шильонского замка, и о Руссо[131], когда смотрели вверх на Кларенс, где он написал свою «Элоизу». Ни один из них не читал ее, но оба знали, что это история о любви, и каждый подумал про себя, была ли она хоть вполовину так интересна, как их собственная. Эми плескала рукой в воде во время возникшей в разговоре маленькой паузы, а когда подняла глаза, увидела, что Лори оперся о весла и смотрит на нее с выражением, которое заставило ее торопливо сказать – лишь для того, чтобы что-то сказать:
– Ты, наверное, устал; отдохни немного, а я буду грести. Мне это будет полезно, а то с тех пор, как ты приехал, совсем обленилась и только наслаждаюсь.
– Я не устал, но можешь взять весло, если хочешь. Здесь достаточно места, хотя мне приходится сидеть посередине, чтобы уравновесить лодку, – ответил Лори, словно был даже рад этому перемещению.
Чувствуя, что она не слишком поправила дело, Эми заняла предложенную ей треть скамьи, откинула волосы с лица и взялась за весло. Она хорошо умела грести, так же как и многое другое; и хотя она гребла двумя руками, а Лори одной, весла опускались и поднимались в такт и лодка ровно скользила по воде.
– Как хорошо мы гребем вместе, правда? – сказала Эми; молчание казалось ей невыносимым в ту минуту.
– Так хорошо, что мне хотелось бы, чтобы мы всю жизнь гребли в одной лодке… Ты согласна, Эми? – очень нежно спросил он.
– Да, Лори, – очень тихо ответила она. Они оба перестали грести и невольно добавили красивую маленькую картинку человеческой любви и счастья к наплывающим видам, отраженным в озере.
Глава 19
Совсем одна
Легко было обещать самоотречение, когда собственное «я» было целиком поглощено другим «я», а сердце и душу очищал прекрасный пример другого сердца и души. Но когда голос, что помогал, умолк, ежедневные уроки любви кончились, дорогое существо ушло навсегда и не осталось ничего, кроме одиночества и горя, для Джо оказалось очень трудным сдержать свое обещание. Как могла она «утешить папу и маму», когда ее собственное сердце разрывалось от тоски по сестре, как могла она «сделать дом счастливым», когда весь свет, тепло и красота, казалось, ушли из него вместе с Бесс, покинувшей свой старый дом ради нового, и где во всем этом мире могла она найти для себя «какой-нибудь полезный, счастливый труд», что заменил бы ей то преданное служение, которое само себе было наградой? Она пыталась бездумно, обреченно исполнять свой долг, втайне все время восставая против него, ибо казалось несправедливым, что ее немногочисленных радостей должно становиться еще меньше, груз ее забот делаться тяжелее, а жизнь все труднее и труднее, в то время как она продолжает усердно трудиться. Казалось, одним людям достается все солнце, а другим вся тень. Это было несправедливо, ведь она больше Эми старалась быть хорошей, но никогда не получала никакой награды, только разочарование, горе и тяжелую работу.
Бедная Джо, это были мрачные дни – нечто похожее на отчаяние охватывало ее при мысли о том, что ей придется провести всю жизнь в этом тихом доме, посвятив ее скучным заботам, немногим маленьким удовольствиям и долгу, исполнять который никогда не станет легче. «Я не смогу. Я не создана для такой жизни. Я знаю, что убегу или сделаю что-нибудь отчаянное, если никто не придет мне на помощь», – говорила она себе, когда ее первые усилия не дали результата и она, почувствовав себя несчастной, впала в уныние, что бывает часто, когда сильной воле приходится покориться неизбежному.
Но нашелся кто-то, кто пришел Джо на помощь, хотя она не сразу поняла, что перед ней ее добрые ангелы, так как они были в знакомых образах и использовали самые простые чары, более подходящие для бедного человечества. Часто она вскакивала ночью, думая, что Бесс зовет ее, а когда вид пустой постели заставлял ее горько рыдать от неутешного горя: «О Бесс, вернись, вернись!», она протягивала руки с ненапрасной мольбой. Мать, услышав ее рыдания так же быстро, как слышала она и самый слабый шепот ее сестры, приходила, чтобы утешить ее не только словами, но терпеливой нежностью, которая успокаивает прикосновением, слезами, что безмолвно напоминают о горе большем, чем горе Джо, и прерывающимся шепотом, более красноречивым, чем молитвы, ибо полное надежды смирение шло рука об руку с истинным горем. То были священные мгновения, когда сердце говорило с сердцем в молчании ночи, обращая скорбь в благословение, которое умеряет горе и укрепляет любовь. Джо почувствовала это, и ей показалось, что ее ноша легче, долг милее, а жизнь не столь невыносима, если смотреть на них из безопасного убежища материнских объятий.
Когда страдающее сердце немного утешилось, смятенный ум тоже нашел поддержку. Однажды она пошла в кабинет и, склонившись над милой седой головой, приподнявшейся от бумаг, чтобы приветствовать ее доброй улыбкой, сказала робко: