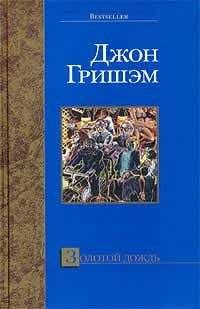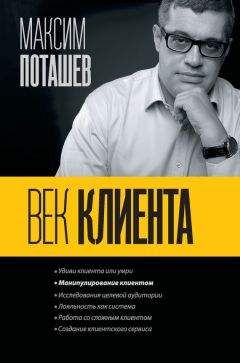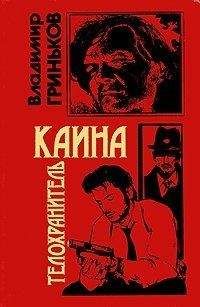Луиза Мэй Олкотт - Хорошие жены
– Мы увидим тебя сегодня вечером, mon frère?[117] – спросила Эми, когда они расставались у дверей ее тетки.
– К несчастью, я занят. Au revoir, mademoiselle[118]. — И Лори склонился, словно желая поцеловать ей ручку на иностранный манер, что шло ему больше, чем многим другим мужчинам. Что-то в выражении его лица заставило Эмми сказать быстро и с теплотой:
– Нет, Лори, будь сам собой в отношениях со мной, и расстанемся добрым старым способом. Я предпочитаю сердечное английское рукопожатие всем сентиментальным приветствиям, принятым во Франции.
– До свидания, дорогая. – И с этими словами, произнесенными тоном, который ей понравился, Лори покинул ее после рукопожатия, бывшего почти болезненным в своей сердечности.
На следующее утро обычный визит Лори не состоялся. Вместо этого Эми получила записку, заставившую ее улыбнуться в начале и вздохнуть в конце.
Мой дорогой Ментор[119],
прошу передать мое adieux[120] твоей тете, и можешь ликовать, ибо Лодырь Лоренс, как послушнейший из мальчиков, уехал к дедушке. Приятной зимы вам, и пусть боги обеспечат тебе счастливый медовый месяц в Вальрозе! Я думаю, Фреду тоже не помешала бы взбучка. Передай это ему вместе с моими поздравлениями.
Твой благодарный Телемак.
– Милый мальчик! Я рада, что он уехал, – сказала Эми с одобрительной улыбкой; в следующую минуту лицо ее омрачилось, и, обведя взглядом пустую комнату, она добавила с печальным вздохом: – Да, я рада, но как мне будет его не хватать!
Глава 17
Долина смертной тени
Когда прошла первая горечь от осознания того, что Бесс должна уйти навсегда, семья примирилась с неизбежным и постаралась нести свое бремя бодро, помогая друг другу возросшей взаимной привязанностью, которая еще теснее объединяет домашних, когда приходит беда. Они старались не думать о своем горе, и каждый делал все, что мог, чтобы этот последний год был счастливым.
Самая уютная комната в доме была отведена Бесс, и там было собрано все, что она особенно любила, – цветы, картины, ее пианино, маленький рабочий столик, милые ее сердцу кошки. Лучшие папины книги оказались там, так же как и мамино любимое кресло, стол Джо, лучшие рисунки Эми, и каждый день малыши Мег в сопровождении матери совершали любовное паломничество, чтобы доставить радость «тете Бесс». Джон, не сказав никому ни слова, отложил небольшую сумму, чтобы иметь удовольствие обеспечивать больную фруктами, которые она очень любила. Старая Ханна не уставала стряпать изысканные блюда, чтобы искушать капризный аппетит больной, и роняла в них слезы все время, пока трудилась в кухне. А из-за океана приходили маленькие подарки и веселые письма и словно приносили с собой дыхание тепла и ароматы цветов из стран, что не знают зимы.
Здесь, лелеемая как домашняя святая в своем храме, сидела Бесс, спокойная и занятая, как всегда, ибо ничто не могло изменить милую, бескорыстную натуру, и, даже готовясь проститься с жизнью, она старалась сделать счастливее тех, кому предстояло остаться. Слабые пальцы никогда не лежали праздно; и одним из ее развлечений было делать маленькие подарки школьникам, пробегавшим каждый день в школу и обратно, – уронить пару варежек для покрасневших от холода рук, игольницу для какой-нибудь маленькой мамы множества кукол, перочистки для юных каллиграфов, с трудом продирающихся через леса крючков и палочек, альбом с вырезками для любящих красивые картинки глаз и другие, самые разные милые изобретения, пока те, кто неохотно взбирался по лестнице знаний, не сочли, что их путь усеян цветами, и не начали смотреть на кроткую дарительницу как на добрую фею, которая сидела наверху и осыпала их дарами, чудесно отвечавшими их вкусам и нуждам. Если Бесс хотела какой-то награды, она находила ее в веселых личиках, всегда обращенных к ее окну с кивками и улыбками, и в смешных маленьких записочках, приходивших к ней, полных клякс и выражений благодарности.
Первые несколько месяцев были очень счастливыми, и Бесс часто говорила, окинув взглядом свою солнечную комнату: «Как здесь красиво!», когда все они сидели у нее, малыши возились на полу, мать и сестры шили, а отец читал приятным голосом отрывки из мудрых старых книг, в которых было много добрых и утешительных слов, столь же применимых сейчас, как и сотни лет назад, когда они были написаны. То была маленькая часовня, где отец-священник учил свою паству, давая ей трудные уроки, которые должны выучить все, пытаясь показать им, что надежда может дать любви утешение, а вера сделать возможным смирение. То были простые проповеди, глубоко проникавшие в души тех, кто слушал, ибо отцовская любовь была в учении священника и часто дрожь голоса усиливала красноречивость слов, которые он говорил им или читал.
Хорошо, что им было дано это спокойное время, чтобы приготовиться к последовавшим за ним печальным дням, так как вскоре Бесс начала говорить, что игла «такая тяжелая», а затем отложила ее навсегда, беседа утомляла ее, лица беспокоили, страдание овладевало ею, спокойствие духа было прискорбно нарушено болезнью, мучившей слабую плоть. Какие это были тяжелые дни, какие долгие, долгие ночи, как страдали сердца и какие возносились горячие молитвы, когда те, кто глубоко любил ее, были принуждены видеть умоляюще протянутые к ним худые руки, слышать горький возглас: «Помогите мне, помогите!» – и чувствовать, что нет помощи. Горестное возмущение безмятежной души, острая борьба юной жизни со смертью – но и то и другое было милосердно кратким, а затем восстание природы кончилось, вернулся прежний покой, еще более прекрасный, чем прежде. С разрушением хрупкого тела душа Бесс становилась сильнее, и, хотя она говорила мало, те, кто был вокруг нее, чувствовали, что она готова и что первый призванный пилигрим был также и самым достойным, и ждали с ней на берегу, пытаясь разглядеть Сияющих[121], идущих встретить ее, когда она перейдет реку.
Джо никогда не покидала сестру ни на час, с тех пор как Бесс сказала: «Я чувствую себя сильнее, когда ты здесь». Джо спала в комнате Бесс на кушетке, часто просыпаясь, чтобы поправить огонь, покормить, поднять или подать что-то, помогая терпеливому существу, которое редко обращалось с просьбами и «старалось не причинять беспокойства». Весь день Джо оставалась в той же комнате, ревнуя к каждой другой сиделке и гордясь тем, что выбрали ее, больше, чем любой другой честью, когда-либо выпавшей в жизни на ее долю. То были драгоценные и полезные часы для Джо, ибо ее сердце училось тому, в чем так нуждалось, – уроки терпения давались так мило, что невозможно было не понять их: доброжелательность ко всем, чудесный дух прощения, что способен по-настоящему забыть чужую недоброту, верность долгу, которая делает самое тяжелое легким, и искренняя вера, что не боится ничего и надеется без сомнений.
Часто, когда Джо просыпалась, она заставала Бесс за чтением той старой маленькой книжечки, которую когда-то подарила ей на Рождество мать, слышала, как она тихонько напевает, чтобы скоротать бессонную ночь, или видела, как она сидит, опустив лицо в ладони, а слезы медленно капают между худыми пальцами; и Джо лежала, глядя на нее, с мыслями слишком глубокими для слез, чувствуя, что Бесс, как всегда просто и несебялюбиво, пытается отвыкнуть от дорогой старой жизни и приготовиться к жизни предстоящей через священные слова утешения, спокойные молитвы и музыку, которую так любила. То, что видела Джо, давало ей больше, чем самые мудрые проповеди, самые святые гимны, самые горячие молитвы, ибо глазами, проясненными слезой, и сердцем, смягченным самой нежной печалью, она увидела и узнала красоту жизни сестры – без событий, без честолюбивых замыслов, но полную истинных добродетелей, что «ароматны и цветут во прахе»[122], и бескорыстия, которое делает смиреннейшего на земле наиболее любезным Богу, – подлинный успех, который возможен для всех.
Однажды ночью Бесс просматривала книги на своем столике и нашла нечто, заставившее ее забыть слабость смертного, которую почти так же трудно вынести, как боль. Листая страницы давно любимого «Путешествия пилигрима», она нашла листок, исписанный рукой Джо. Ей бросилось в глаза имя в первой строке, а расплывшиеся чернила убедили ее в том, что на листок падали слезы.
«Бедная Джо! Она спит, и я не стану будить ее, чтобы спросить разрешения; она показывает мне все свои сочинения и, я думаю, не будет возражать, если я прочту это», – подумала Бесс, взглянув на сестру, которая лежала на ковре, положив рядом каминные щипцы, готовая проснуться, как только горящее полено распадется на части.
МОЯ БЕСС
Ожидая свет благословенный,
Терпеливо ты сидишь в тени.
Дух твой тихий, в горести смиренный.
Святостью наполнил эти дни.
Радости, печали и волненья —
Только рябь пустая суеты
На волнах реки, что без сомненья
Перейти уже готова ты.
Берег наш навеки покидая,
Мир, что не живет в святой тиши,
Мне оставь в наследство, дорогая,
Все твои сокровища души.
Завещай великое терпенье,
Что сильней, чем самый лучший друг,
Может нашу веру в Провиденье
Поддержать в оковах смертных мук.
Надели меня чудесной силой —
Смелостью любви и доброты
Сделать долг не колеей унылой,
А тропой весны и красоты.
Дай мне бескорыстие и кротость,
Чтоб всегда уметь забыть себя,
Чтобы и обиду и жестокость
Сердцем и душой прощать, любя.
Так теряет наше расставанье
Горечь всю последнего «прости»,
Ибо каждый день дает мне знанье,
Как с утратой нечто обрести.
Тяжкое прикосновенье горя,
Усмиряя дух мятежный мой,
Даст мне мудрость жить, с судьбой не споря,
В единенье с силою благой.
И отныне, стоя над рекою,
Буду знать – на дальнем берегу
Ждет меня и машет мне рукою
Та, чей образ в сердце берегу.
Добрый ангел веры и надежды
Сохранит на жизненном пути,
В час последний мне прикроет вежды,
Даст без страха реку перейти.
С потеками и кляксами, неровные и бледные, строки эти принесли Бесс невыразимое утешение. Она всегда сожалела лишь о том, что так мало сделала в этой жизни, но стихи Джо уверяли ее, что она жила не напрасно и что ее смерть не принесет отчаяния близким, как она прежде боялась. Пока она сидела со сложенным листком в руках, обуглившееся полено упало и развалилось на куски. Джо вздрогнула, поправила огонь и тихонько подкралась посмотреть, спит ли Бесс.