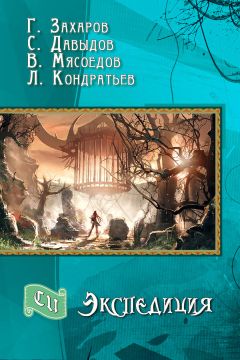Илона Волынская - Приключение в наследство
– О, туда вас! – искренне возрадовалась оставшаяся с пленниками пара конвоиров. Со сноровкой, выдающей немалый опыт, они начали по одному, как чеснок со связки, отцеплять пленников с жердины и заталкивать в загон.
Катерину дернули за связанные руки…
– Пусти! – вдруг пронзительно и страшно закричала она и, со всей силы пнув охранника по голени, рванулась прочь. Казак легко перехватил ее за талию, не дав пробежать и пары шагов, Катерина отчаянно забилась в его руках. – За что? Мой тятя сотник был, казацкий сотник… вы… Отпустите! Мама-а-а! Отдайте маму! Верните!
Охранник швырнул ее на покрытую нечистотами землю и с оттяжкой стегнул плетью. Резкая, отнимающая даже крик боль заставила девочку выгнуться, будто лук.
– Я такое уже слыхал! – раздался вдруг рев, смахивающий на медвежий. Катерину рывком подняли с земли, и она повисла, пиная ногами воздух. Она сразу узнала это лицо, эти вислые усы. – Сотнико-овна! – его губы растянулись в жуткой улыбке. – Нехай меня чертяка забодает, если ты не с того самого подворья, где меня щенок с пистолем подстрелил! – Он неловко повел плечом – богатый жупан соскользнул в свинячью лужу, но он даже головы не повернул. – Тебя ж пан гетман от меня забрал? Ничего, сейчас уже я тебя заберу! – Он закинул Катерину на другое, здоровое плечо. Девчонка отчаянно завизжала, но перекрывая ее ор, завопил сосед по жердине, оказавшийся пареньком годка на три постарше Катерины, белобрысым, веснушчатым, со вздернутым носом, хитрющими глазами и такой глоткой, что перепуганная курица, растопырив крылья, в ужасе помчалась по двору, а корова протяжно замычала.
– Добычу крадет! Вор! Обманщик! – надрывался хлопец. – Паны товарищи лыцарство, да что ж это делается! Разве ж у Войска Запорожского нету ни правил, ни законов, разве не клянутся казаки на святом Евангелии, что, если кто добычу потаит, Господь его покарает и в этом мире, и в следующем? Тоже клялся, небось, а сам середь бела дня у своих братьев из доли девку тянет!
– Верно, не дело, – неуверенно начал один из конвоиров. – Пока паны старши́на все по-честному меж панами товарищами не поделят…
– Чихал я на панов старшину! Моя девка! – казак все еще орал, не понимая, что кричит один на вмиг умолкшем дворе. Свисающая с плеча Катерина с трудом вывернула голову, увидев возвышающегося над ней жеребца и разряженного всадника в шапке с пером, с интересом разглядывающего орущего усача. За спиной у всадника, тоже верхóм, виднелась богато разодетая казацкая старшина.
– Ты того… обернулся бы, пан, что ли… – с некоторым даже сочувствием вдруг сказал враз переставший возмущаться белобрысый хлопец.
Усач развернулся… босые ноги Катерины прошлись по носу жеребца – тот попятился и злобно фыркнул. Мгновение – усач узнал всадника и, мрачно хмурясь, согнулся в поклоне. Катерина бессильно свисала с его плеча.
– Как звать? – обронил всадник.
– Охримом, пан гетман!
– Ты недоволен моим решением, Охрим? Думаешь, лучше поделишь добычу, чем паны старшина? – Косинский холодно усмехался, а глаза его оставались острыми и колючими, словно взведенные стрелы на самостреле. – И как же? Себе, себе и еще маленько себе?
Вокруг захохотали. Усатый Охрим побагровел от злости, но смолчал.
– Чихал он на нас! – пробурчал за спиной Косинского казацкий полковник, толстый, аж кобыла под ним проседала. – Эдак ежели каждый на нас чихать будет… прочихаются! А ну положь девку где взял! – надсаживаясь до вздувшейся жилы на лбу, заорал полковник.
Охрим злобно рыкнул и… швырнул Катерину под ноги старшинским коням.
– Я дивчину к себе возьму! – раздался негромкий, но такой грозный голос, что Охрим выпустил Катерину быстрее, чем от криков полковника. Из низенькой двери вырывались клубы пара и такие запахи, что живот Катерины скрутило в узел, а на пороге стояла бабища таких размеров, что ее бока заполоняли дверной проем от края до края. – А то мы с каплунами[24] к обеду не поспеваем, вельможный пан! – и бабища поклонилась, с трудом опираясь на собственный живот. – И того горластого мальца тоже! Для кухни не сгодится, на огород пойдет, ворон криками гонять!
Немудрящая шутка снова вызвала у панов старшины гогот: хохотал, тряся телесами, толстый полковник, тонко усмехался гетман.
– Каплуны – это хорошо! А ты гляди у меня, еще раз к добыче лапу протянешь – пожалеешь! – и полковник погрозил Охриму плетью.
– Быстрее, бежим! – белобрысый хлопец, как был, с неразвязанными руками, поднял Катерину с земли и поволок в распахнутую дверь, в кухонный чад и грохот.
– Как звать? – коротко бросила бабища.
– Савкою, вельможная пани! – отрапортовала белобрысый, преданно уставившись на бабищу.
– Какая я тебе пани, если сама у панов служу? – ухмыльнулась та, показывая редкие почерневшие зубы. – А девку как?
Катерина молчала, угрюмо, как зверек, глядя на возвышающуюся над ней бабу. И тут же получила ощутимый тычок в бок.
– Что молчишь, сотникóвна, и впрямь с ума сошла? – процедил белобрысый Савка.
– Я-то думала, она тебе сестренка, – разочарованно протянула бабища.
– Сестренка, сестренка. По голове ей дали, вот она имени своего и не помнит, – бесцеремонно подсовывая Катеринину окровавленную косу бабище под нос, объявил Савка.
– И тебе, видать, заодно дали – ты тоже, сдается, имени ее не помнишь? – бабища уперла руки в бока.
– Он у нас с детства дурноватый, – прошипела Катерина, отнимая косу у Савки. – Катерина я.
– Меня можете теткой Оленой звать. Птицу щипать умеешь, Катерина? – не дожидаясь ответа, бабища одним движением кухонного ножа перерезала путы на руках у девчонки и подтолкнула ее к столу, где, жалостно задрав лапки, лежали с десяток каплунов. – А ты за дровами марш, быстро! И смотрите мне оба: хоть репку с гетманского стола возьмете – запорю! – И, не обращая больше на них внимания, снова нырнула в кухонный чад, откуда доносился стук ножей, грохот чанов и то и дело выглядывали любопытные физиономии кухонного люда. – Что пялитесь – вам тут фигляры бродячие приехали? А ну работать!
Катерина тупо уставилась на каплунов. Почему? Почему она стоит на этой кухне, ведь у нее был дом, брат, Рузя, была мама… мама, мамочка! Почему?
– Почему-почему… – то ли она бормотала вслух, то ли на лице у нее было написано, но Савка вдруг налетел, ухватил за косу и поволок к дверям.
– Что ты делаешь?! – попыталась рвануться Катерина, но Савка уже подпихнул ее к самому порогу и ткнул пальцем:
– Гляди!
Вытянув ноги, Охрим сидел посередь двора на поставленном на попа чурбаке – слуги, окрестные крестьяне и даже другие казаки обтекали его с обеих сторон, бросая на вольготно расположившегося усача недобрые взгляды, но лежащая поперек колен сабля заставляла их молча проходить мимо. Богатые сапоги казака покоились на измаранном жупане, а сам Охрим неотрывно глядел на кухонную дверь. Увидел Катерину – и глаза его вспыхнули, а рука томным, ласкающим движением прошлась по обнаженной сабле. Катерина прижала обе руки к животу, чувствуя, как ее резко и страшно затошнило.
– Или здесь, или в момент там окажешься, – сурово сказал Савка и настороженно огляделся, не идет ли тетка Олена.
– Так… нечестно! И недобре! – простонала Катерина, чувствуя, как душа ее просто разламывается на части.
– Дите малое! Где же ты на целом свете видела честность али доброту? – в кривой усмешке Савки вдруг проступила тяжелая, взрослая горечь.
День был как длинный темный мешок, до краев наполненный перьями, чадом, горелым жиром и неподъемными тяжестями. На печи, громадной, как три печи в Катерининой хате, кипели казаны и томились горшки. Малейшее прикосновение обжигало до пузырей. Катерину таскали по всей кухне словно тряпичную куклу, перекидывая к новой работе. Она щипала каплунов, плача от боли в обваренных кипятком руках, драила покрытый слоем застарелого жира казан, мешала деревянной ложкой разварившееся пшено и снова щипала птицу, пока на истерзанных пальцах не закровоточили сорванные мозоли. Слезы неостановимо бежали по щекам, желудок выл от застарелого голода… а потом замолчал, тело впало в оцепенение от постоянной боли и усталости. А когда очередная голая птичья тушка исчезла, Катерина остановилась, бессмысленно глядя на пустой стол. Медленно подняла гудящую голову и оглядела кухню. Чад расползался, открывая яства на медных, оловянных, дорогих серебряных и простых деревянных блюдах, словно случайно собранных на этом столе. Катерина увидела своих почти родных каплунов, с дразняще-ароматной хрустящей корочкой. Вбежавший слуга подхватил блюдо и умчался прочь. Катерина пошатнулась, чувствуя, как слабеют колени.
– Ну вот, теперь можно и повечерять! – раздался веселый голос тетки Олены… и перед Катериной на стол лег ломоть черного хлеба. Тетка торжественно протерла краем грязноватой запаски[25] толстобокую розовую луковицу и протянула ее Катерине: – На! Заслужила!