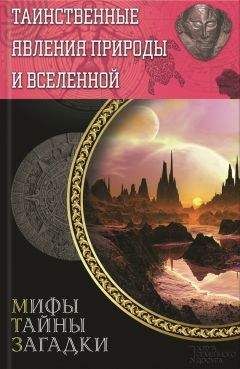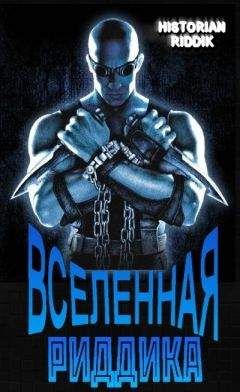Геннадий Дубовой - Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы
– Жди. Утром приедет Моторола, заберет тебя.
– Моторола? А как я его узнаю?
– Узнаешь. – Засмеялся. – Услышишь грохот громче взрывов, не ошибёшься: это лягушонок в коробчонке, твой командир летит на «джихад-мобиле». Служи, боец. Получишь награду, вспомни, кому обязан.
Вспоминаю…
«Отморозок», или Одинокий человеческий голосНекоторые коллеги упрекают меня в том, что я «не умею снимать». Они забывают, что я не военкор в классическом смысле, а в первую очередь боец. И потому – даже не в бою – снимаю намеренно «неумело». Тому есть три главные причины.
Первая: кто не воюет – тот лишнее в бою звено, а воюешь – не до съёмок. В этом я убедился в первый боевой выход майским утром, когда сбили вертолет с генералом и двенадцатью спецами. Сбили, увы, не мы – бойцы с соседней позиции. Расчёт, к которому я был прикреплён, получил команду работать на поражение с некоторым запозданием, развернуть «Утёс» мы не успели. А вот минометная «ответка» пришлась как раз по нашему сектору в лесу у водохранилища, словно украинский генерал с того света корректировал огонь, наказывая нас за нерасторопность. Разрывы в нашей «зеленке» всё ближе и гуще, осколки вгрызаются в стволы деревьев, ссекают ветви. Кевларовой каской и бронежилетом мне тогда (да и потом почти всю славянскую эпопею) служили любимая кепи и футболка с логотипом всеукраинской газеты «Вести», которая в ту пору считалась пророссийской. «Не фотографируй, отморозок, – «поощрял» меня командир расчета, – мелькаешь, как на прогулке, убьют, ложись!» – «А кто за меня работать будет?» Однако работать, как и хотел я изначально, надо было не фотокором. По команде «Отходим!» бойцы подхватили «Утёс», я – патронные ящики. Не до съёмок. Хорошо, что нас не преследовали, иначе пришлось бы мне, прикрывая отходящих, отстреливаться… фотовспышкой! После этого боя Моторола разрешил выдать мне оружие.
Июль. Пробиваем коридор к границе с Россией, штурмуем Мариновку. Наша группа попадает под перекрестный обстрел из минометов ПК и СВД. Один наш БТР горит, второй – на полном газу – скрывается за поворотом. Ползу по канавке вдоль кукурузного поля в дерьме нацгврадейцев (с тех пор точно знаю: дерьмо не к деньгам – к снайперам), периодически по каске получая каблуком впереди ползущего разведчика (позывной Бревно) и… пытаюсь снимать. «Не бликуй ты своим видео, братишка, – испуганно бросает он через плечо, – на водонапорной башне справа снайпер и пулемётчик.» Слева – взиииигуп-гуп-гуп: лохматины взрывов у опоясанной мешками с песком автобусной остановки. Бревно одурело мотает головой, вытряхивая из волос землю, а меня трясёт от смеха.
– Эй, Корреспондент, ты чего… хохочешь? Контузило?
– Слегка. Но дело не в этом. Представляю. Какое будет качество съемки…
– Стой, отморозок! – кричит он мне в спину. – За остановкой в подсолнухах засада!
– Мы уже в засаде, вперед!
Народ перебегает к остановке, я прячусь за мешками с песком, прикуриваю. Заметив на дороге БМП (чья? неужели укры контратакуют?) открываю видеокамеру. И чувствую не свой – набившейся внутрь остановки толпы ополченцев шквальный страх, слышу: «Пац-цаны, сей-час при-прилетит…» Взрывной волной захлопнуло мониторчик камеры, вырвало из губ сигарету, из мешков у меня за спиной осколки вырвали песчаные фонтанчики. А внутри остановки – кровавое месиво. Все снова почуяли: сейчас прилетит и – врассыпную к ближайшей «зелёнке», только бы подальше от пристрелянного места. Убежать успели не все: из подсолнухов за остановкой резанули по бегущим ополченцам пулеметными очередями, с господствующей высотки снова посыпались мины, а с неба – бомбы и ракеты безжалостных Су-25.
В затишье приехали военные корреспонденты. Каски-броники-суперкамеры со штативчиками. Иностранцы и «Лайф Ньюс». Молодцы, профи. Отработали в полчаса, сняли всё быстро и красиво: выжженное поле, исковерканный БТР, пару трупов плюс мнение ополченца, который чуть позже станет трупом. Умчались. А через 20 минут снова начался бой, и кровь – не метафорически, реально – ручьём текла по ступеням дома, в котором прятались от мин, и друг разорванного прямым попаданием Лешего из подразделения Рязани, направив на меня ствол РПК орал: «… Камеру на… убери, он, – кивок на лицо убиенного, раскуроченное в кровавый нуль, – разрешал тебе… снимать? Пристрелю… он брат мой! Брат!.. А тебе – кино?!»
Вторая причина – видеокамеру я взял в руки вынужденно, по приказу, заранее зная, что переживаемое на войне невыразимо, а впоследствии, убедившись в этом на опыте, утратил желание снимать.
Опыт этот обретён в ещё первом полномасштабном бою этой войны – 3 июня в Семёновке. Снимал погибших бойцов расчёта ПТР Севера и Цыгана (из противотанкового ружья выпуска 1943 года они пытались подбить Т-64) и – отчетливейшее ощущение – незримой на плече горячей, требовательно подталкивающей ладони: уходи! Я ушёл в безопасное место, танковый снаряд вздыбил землю за блиндажом, у которого погибли Цыган и Север, и сразу же, резко, без всякого перехода, в обвальный миг, словно так было всегда, я увидел бой глазами всех разом участвующих в нём бойцов. Увидел и почувствовал всё, что видят и чувствуют они не только в данный момент, но всё, что они и те, кого они по-настоящему любят когда-либо пережили. Всё – сны, самые потаённые мысли.
Испытанное слияние с сознаниями сотен людей вызвало не страх – радость; целительное, как в материнской утробе спокойствие. И внутри этого невыразимого спокойствия душа бабочкой в панцире нетварного света, сразив безумие обыденности, алмазным росчерком озарения соединила-вмагнитила в одну бездонную и все выявляющую фразу вездесущности всё содержание миров невидимых и видимых. Сгорело «Я» – и то, что было тленным мною, стало в зияющем разломе вневременности нетленным всем во всём.
Когда вернулось обыденное восприятие, я отстранённо глянул на камеру (в это время мелькнула над головой, разворачиваясь на боевой заход «сушка») и спросил себя: «Чем я занимаюсь? Всем вместе взятым гениям кино не выразить и отблеска того, что открывается здесь всякому, идущему навстречу смерти».
Я убедился потом, что подобное в бою переживали многие, но, по понятным причинам, либо скрывают это, либо забывают этот опыт, и проявляется он лишь косвенно. Хотя в реальности все знают всё о всех, всё тайное ещё 2000 лет назад стало явным. Как-то в разговоре с добровольцем из Крыма мне вообразилось (словно увидел мгновенное кино) забавное происшествие из жизни студентов, я стал о нём во всех подробностях – с именами, датами, деталями обстановки – рассказывать в полной уверенности, что импровизирую, и вдруг замечаю на лице собеседника ошеломление, граничащее с паникой. «Епрст! У меня дома скрытых камер вроде нет, и содержимое мозгов сканировать вроде ещё не научились. Ты что – ясновидящий?.. Где ты эту историю услышал? Бывают же совпадения…»
Для эзотериков, психологов и скептиков отмечу: это не инициический спонтанный акт внедрения в тонкий мир и слияния астральными структурами. Не трансперсональное катапультирование и трансформация в «чувствилище Вселенной – человека-камертона», который входит в резонанс с псиинформационными полями и улавливает их вибрации. Не реактивно-психотическое состояние со сценоподобными зрительными и слуховыми галлюцинациями в травмирующей ситуации. Не защитная реакция. Нет и нет. Не было это и тем, что православные называют прелестью. Это был опыт вхождения в повседневную явь, в которой мы пребываем с момента зачатия ежесекундно. Но открывается эта явь не тому, кто забавляется ритуалами, эвокативными техниками и психотропными препаратами, а тому лишь, кто хотя бы на единый в земной жизни неуследимый и неуничтожимый миг готов был не иллюзорно – подлинно собой пожертвовать, взойти на свой крест. Отдать кровь, чтобы принять Дух.
Третья причина – пользуюсь я самой дешевой (не жаль терять) аппаратурой, но дело не в этом, а в том, что снимать войну «в хорошем качестве картинки» – значит торговать чужой кровью. Пусть «ловлей кадров» занимаются другие, и пусть им не будет мучительно стыдно за рейтинги, карьеру, гонорары.
Давний приятель, в прошлом журналист, а ныне бизнесмен привёз мне в Иловайск видеокамеру с фантастическим качеством съемки. Сюжет не заставил себя долго ждать. На склоне ж/д насыпи обнаружили мы изувеченного украинца. Лежал он вниз головой, раскинутыми перебитыми ногами к небу. В кровавом закате, казалось: бесы за ноги тащат его к себе, а он стонет, зверем хрипит, уже видит предсмертной агонии подлинный ад, и потому яростно бесам сопротивляется. Размылись границы миров, и в вечности, превращенной нескончаемым умиранием в никуда устремленный багряный поток, плыл последний человек, обреченный вечно взывать и слышать только собственный голос. А потом пришли куры, из разбитого миной сарая пришли уцелевшие и ещё не съеденные бойцами куры и стали выклевывать умирающему украинцу глаза. Подойти мы не могли – человек умирал в зоне, насквозь простреливаемой снайперами, стонал, а лицо его выклевывали куры…