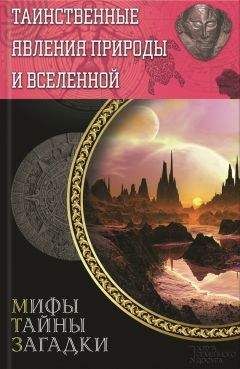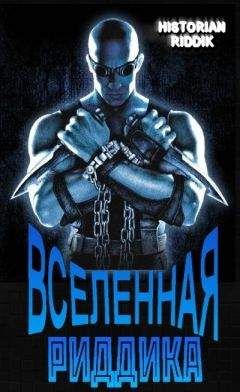Геннадий Дубовой - Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы
Камуфлированные обыватели пытаются неизбывную отделенность растворить в стадности. Для бойца обвальное переживание одиночества – милость свыше, шанс, возможность сокрушить «Я!» и стать воином. А для воина одинокость не более чем «технологическое условие» духовного роста.
В Николаевке под плотнейшим миномётным обстрелом непередаваемое испытал я состояние. Момент возможной смерти открылся как бесплотный «голем». Как «существо», вылепленное из «глины» фантомной боли: страстей, греховных мыслей, дурных поступков, сделанных или так и оставшихся в воображении моих умерших родственников.
Всё злое, гнусное, безбожно-корявое содеянное всеми моими предками пережил враз; слился с ними, в запредельном онлайне сам делал всё ими когда-либо содеянное греховно-мертвящее, нераскаянное. И ужаснулся. Содрогнулся от омерзения и наваливающейся обреченной панической безысходности. Отторг ЭТО покаянным воплем к Создателю и Спасителю. И «голем» развалился, исчез, хотя осколки мин летели так густо, что исчезнуть он должен был вместе со мною, должен был утащить…
Смерть по духовной наследственности каждого меняет обличия, но пережитое мной не является чем-то исключительным, в чём убеждался множество раз.
К слову, утверждение в мифах разных народов о том, что смерть приходит слева, не выдумка. Она всегда там, и после того случая я постоянно чувствую её присутствие. На её обволакивающе-навьи подманивания отвечать нельзя, каждый ответ ей – приятие, согласие со злом, вольно или невольно содеянным предками и тобой, подчинение «голему» из нераскаянных поступков. Отогнать смерть, можно только покаянной за себя и всех ушедших молитвой.
В Мариновке, в подвале дома, где мы укрылись от минометного обстрела, пожилой раненый боец дремал в углу на мешках. Резко пробудился, закричал страшно, цапнул соседа за лицо: «Дед?! Роман?!» – «Брат, кошмар приснился? Ты успокойся, давай антишок вколем…» Глаза раненого надо было видеть. Таких глаз – как у крысы затравленных и одновременно как у святого проясненно-нездешних не видел я ни до ни после. Успокоившись, он поведал: «Дед ко мне приходил. Как живой. Только не совсем он… Лицо его, а он – это они все…» – «Кто – все?» – «Ну, все… деды-бабки-батя-дяди-тетки мои… которые умерли… будто все они живые и неживые… и дед рассказал… нет, не так – показал… как человека в Отечественную, под Минском убил… зря убил… пленного… штыком заколол… в спину воткнул… я отругал его, прогнал… а дед Роман меня воспитал… батя спился, сгорел…» – «Ты успокойся, штыками сейчас не колют, а мина сюда не залетит».
Встретил я его спустя почти три месяца, в аэропорту. Он уже был в «Оплоте». Напомнил: «Ну что, дед Роман больше не приходил?» – «Нет. Заупокойные записки подают за всех моих, и за деда, в монастыре на проскомидии поминают. Смотри, – повернулся он ко мне спиной. – Видишь, слева, дырка в рюкзаке? Осколок. Длиннющий, как штык винтовки Мосина. Рюкзак набитый и броник насквозь, а кожу чуть проколол. За деда молюсь теперь постоянно. За всех своих, кто уже там, – глазами указал на продырявленный свод ангара, – молюсь».
Если б все молились столь же интенсивно и безостаточно как в бою – вход в этот мир насильственной смерти был бы закрыт. К слову, в самом начале славянской эпопеи ополченцы, как ни старались, не смогли сбить украинский вертолёт, в котором, как позже узнали, эвакуировались раненые. «Сильно, значит, родные за них молились», – сказал мне об этом случае бывший на месте события боец. А вот вертолёт с ненавистником России, грозившим ополченцам адскими карами генералом – сбили без проблем, виртуозно.
Мертвые – в каком-то смысле изнанка живых, они открывают нам то, что без жертвенной их смерти навсегда осталось бы от нас сокрытым. То, как человек умирает, форма его ухода из этого мира – это всегда некий шифр, который Бог предлагает разгадать ещё живым. Сам процесс разгадки, искренняя попытка понять, почему так, а не иначе ушёл человек – меняет личность того, кто ищет ответ. А если человек духовно не застыл, в поиске разгадки, меняется, то из этого мира уходить ему ещё не время.
По большому счету война учит одному – собственным опытом на собственный, лишь воину понятный язык переводить сказанное в Евангелии с единственно значимой в этом мире целью – умереть так, чтобы форма смерти обеспечила посмертное не-отсутствие, но реальное содержание. А каким оно будет, зависит от безоглядного порыва к тому, что никак не вытекает из всей предшествующей жизни человека, не тождественно ничему в его опыте, но предлагается свыше как очевидная невозможность и безусловная абсурдность, которые, вопреки всему мыслимому – спасительны. Война суть норма исключительности; она делает всё парадоксальное тривиальным, а все противоречия переплавляет в последовательное движение к безусловной ясности и целостности восприятия.
Что испытывает в каждом в бою воин, то есть тот, кто сражается не ради земных благ и славы, но против силы, порождающей войны? Точь-в-точь то же, что приговоренный к гильотине преступник (ибо для мира, лежащего во зле стремление к Источнику Добра – преступно). Исчерпывающе в «Идиоте» это выразил Достоевский: «…так до самой последней четверти секунды, когда уже голова на плахе лежит, и ждёт… и знает, и вдруг услышит над собой как железо склизнуло!» В эту четверть секунды, в нескончаемом разломе зыбучей яви озарений, когда лезвие посмертья уже прикоснулось к шейным позвонкам, приговоренный знает: неостановимый тесак гильотины – это нож Авраама, вечно над воином занесенный и вечно останавливаемый Тем, Кто милости хочет, а не жертвы. Каждый миг боя и всё, что длится сейчас в Новороссии суть четверть секунды бесконечного одиночества и абсолютной жертвенности. И это – главный урок войны.
С первого боевого задания и доныне я молился и молюсь так: «Создатель и Спаситель мой, невозможного для Тебя нет, яви милость Свою: сделай, чтобы я не убил того, кто не хочет убивать, а раненый мною не стал бы увечным». Только раз, во время сражения в аэропорту, ослепленный страстью отомстить любой ценой, я забыл об этой молитве и – во тьме у передовой позиции рухнул в яму.
Лечусь. Учу уроки войны. Каюсь.
28 мая 2015 года, журнал «Русский дом»Позывной «Корреспондент»
После появления в «Свободной Прессе» материала «Военкор не нужен» меня постоянно спрашивают: каково это – быть воюющим журналистом, и почему я утверждаю, что обычный военкор, честно на фронте выполняющий свой долг, но не берущий в руки оружия, не может выразить суть войны? Попытаюсь ответить обстоятельно и закрыть эту тему.
– Вы Геннадий Дубовой? Документы. Следуйте за нами.
Ствол упирается в спину, впереди спина контрразведчика, шлепаем через блокпост по лужам под дождём к зданию экс-СБУ Славянска.
– Стоять, вещи на землю, руки за голову, лицом к стене. – Перед глазами старинный красный кирпич купеческого особняка, боковым зрением улавливаю мелькание фигур в камуфляже, обрывки фраз сливаются в одну: —…как он там оказался?.. Знаем мы таких журналистов… На подвал, утром разберёмся… Не оборачиваться, смотри в стену! Седого найдите, быстро!
Пока ищут начальника контрразведки штаба ополчения Славянска, в меня со всех сторон летят вопросы:
– С какой целью прибыл? По какому маршруту? Через украинские блокпосты? Как ты оказался в караульном помещении? Кто пустил? Отвечай!
Объясняю: через украинские блокпосты проехал на обычной маршрутке. По удостоверениям НСЖУ (Национального союза журналистов Украины) и корреспондента всеукраинской газеты «Вести» с целью освещения событий в зоне АТО. Нацгврадейцы поверили. Удостоверение главреда газеты ДНР «Голос Народа – Голос Республики» во время досмотра спрятал под ковриком в маршрутке. В Штабе получил устное распоряжение Игоря Ивановича Стрелкова отправиться военкором на передовой рубеж Славянской обороны, в Семеновку. На последние вопросы не отвечаю, чтобы не подвести бойцов, которые спрятали меня от ливня в караулке.
«Хорошо повоевал, – думаю обреченно, – свои же могут пустить в расход как шпиона или отправят назад. Господи, помилуй…»
Наконец-то явился Седой. Ситуацию просчитал мгновенно. Распорядился наказать тех, кто нарушил устав караульной службы и – мне: «Боец! Рюкзак на плечо, за мной бегом марш!» Добежали до блокпоста:
– Жди. Утром приедет Моторола, заберет тебя.
– Моторола? А как я его узнаю?
– Узнаешь. – Засмеялся. – Услышишь грохот громче взрывов, не ошибёшься: это лягушонок в коробчонке, твой командир летит на «джихад-мобиле». Служи, боец. Получишь награду, вспомни, кому обязан.
Вспоминаю…
«Отморозок», или Одинокий человеческий голосНекоторые коллеги упрекают меня в том, что я «не умею снимать». Они забывают, что я не военкор в классическом смысле, а в первую очередь боец. И потому – даже не в бою – снимаю намеренно «неумело». Тому есть три главные причины.