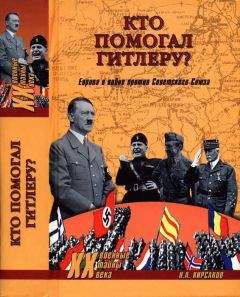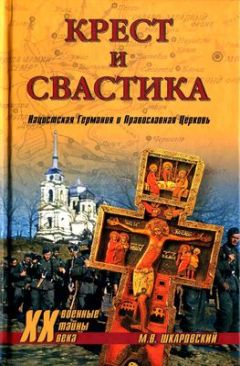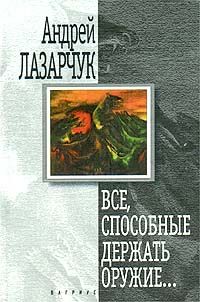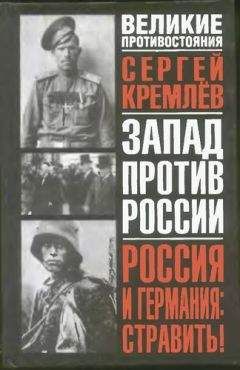Ванда Василевская - Реки горят
— Ну, что я не говорю ему о матери. Что ее как будто и не было. А ведь она его тоже любила.
— Ну и что же? Неужели из-за этого он должен всю жизнь чувствовать себя сиротой? Зачем? А так он знает, что у него есть мать, есть дядя. Нет, хорошо, что самые маленькие дети не помнят. А еще лучше было бы, если бы не помнили и те, которые побольше.
— Чего чтоб не помнили?
— Войны, например. И всего, что пришлось пережить. Бомбежек, боев, смерти.
Тихо скрипел под ногами песок. Легкие, подвижные тени ложились на дорожку. Стефек замедлил шаг.
— Зато взрослые должны помнить, взрослые не смеют забывать.
Она понимала, что он думает сейчас не о боях, не о своем военном пути из глубины Советского Союза сюда, в Польшу. Он думает о братской могиле, где лежит Соня Кальчук.
Сколько же лет он любит Соню? Ведь он был тогда подростком, а Соня — совсем девчонкой. Но они нашли и полюбили друг друга, и эта любовь была простой и ясной с начала до конца. Сейчас, конечно, нельзя об этом говорить. Но такая любовь и такая смерть, как любовь и смерть Сони, не могут быть тенью, омрачающей жизнь. Это сила, которая ведет человека вперед.
Стефек взглянул на уличные часы:
— Ничего не поделаешь, надо бежать! Приходи, ночуй у меня. Там не слишком удобно, но как-нибудь тебя помещу.
Она долго смотрела ему вслед и думала: хорошо иметь взрослого брата, да еще такого, как Стефек.
Знакомые, которых Ядвига встречала в Люблине, удивлялись:
— Как, ты еще не была на Майданеке?
Но ей было страшно. Она содрогалась от одной мысли о том, что там можно увидеть. Теперь она вдруг поняла, что это просто трусость.
«Миллионам людей пришлось терпеть там нечеловеческие муки, а я боюсь даже взглянуть на место, где они умирали. Не слишком ли я стараюсь облегчить себе жизнь? Имею ли я право только по рассказам знать о тех черных днях?»
Изысканно причесанная, нарядная горожанка и какие-то ее родственники предложили проводить Ядвигу. Нашлась даже потрепанная машина.
— Вот здесь.
Хрустит земля под ногами. Холод пронизывает Ядвигу с головы до ног. Это не земля. Они идут по полю, засыпанному толстым слоем пепла и угольков, которые непроницаемым покровом скрыли песок и глину.
Под ногами трещат мелкие угольки. Сколько же людей должны были сгореть, испепелиться, чтобы это огромное поле превратилось в страшную, хрустящую под ногами пустыню? «Кто умирал здесь, по чьим обуглившимся костям я иду? Кто слышал их последний стон, последний предсмертный призыв, заглохший в черной, пустой ночи, ночи отчаяния? Кто их пересчитает — и зачем считать, когда все равно не встать никому из тех, которые рассыпались здесь в прах и пыль, превратились в золу и уголь».
Люблинянка рассказывает. Но Ядвига ничего не слышит. Мимо проносятся какие-то слова. Какими словами можно описать то, что здесь происходило?.. Сердце сжимается от леденящего ужаса. Маленькое, тяжелое, как камешек, оно бьется медленно, с болью. Может ли быть звук ужаснее, чем этот непрестанный хруст под ногами? Невольно стараешься ступать как можно легче. Но разве это поможет? Ведь идешь по чему-то, что некогда было людьми, их любовью, счастьем, и от чего остался лишь пепел. Как поверить, что это — люди, что это совсем недавно было людьми?
Упорный, мрачный хруст под ногами. Так не хрустит никакой в мире песок, такого звука не издает ни одна земля. Это скрежет смерти.
Вырастут ли тут когда-нибудь цветы? Порастет ли это поле свежей, радостной травой? Невозможно этому поверить. Поле дышит горечью и болью, смертным страхом. Под пеплом и золой задушен стон тысяч людей, несказанный ужас, неописуемая агония. Что может вырасти на месте этих мук?
— Вот здесь печи.
Это сказано совершенно спокойно, тоном экскурсовода. На огромных решетках еще лежат остатки обуглившихся костей.
Ядвига видела, как умирают в госпиталях раненые. Но то была иная — о, какая иная! — смерть…
И вдруг сквозь смятение, сквозь заслонивший весь мир туман пробиваются слова:
— Понимаете, окна невозможно было открыть. А уж если ветер с этой стороны — ну что-то ужасное! Не то что на занавесках, на покрывалах — даже на тарелках такой, знаете, черный налет, вроде пыли, но сразу видно, что не пыль и не обычная сажа. Такая жирная, жирная, прямо не отмоешь! Только горячей водой смывалась… Вы себе представить не можете, как мы мучились с закрытыми окнами летом!
Говорит хорошо одетая дама, коренная жительница Люблина.
Эти слова страшнее, чем хруст человеческих останков под ногами. Страшнее решеток в печах смерти, каменного стола, на котором людей просвечивали перед смертью рентгеном в поисках проглоченных драгоценностей.
В нескольких сотнях метров от места, где умирали миллионы, где пылали в печах мужчины, женщины и дети, — другие люди жили. Жили за окнами, на которых висели белые занавески. Смывали с тарелок жирную черную сажу. И чувствовали потребность в этих занавесках, тарелках, уюте, жаловались, что приходится закрывать окна в жару.
Ядвигу вдруг охватила страшная, обморочная усталость. Кто мертвее — те, чей пепел толстым слоем покрыл большое поле, или те, кто спокойно пережил, кто в состоянии был привыкнуть к этому?
— Были дни, когда черная туча прямо-таки нависала над городом, дышать было нечем…
И ведь знали же, знали, откуда эта черная туча! И дышать не могли — но жить, как всегда жили, могли. Жить с этим сознанием…
«Но чего же я от них хочу? — задумалась Ядвига. — Что ж, неужели всем им надо было пойти в печь?»
Да, рассудок находил в их пользу вполне разумные доводы. Но, вопреки рассудку, люди, которые оказались в состоянии пережить, и так пережить это, внушали ей страх. Женщина, годами жившая под черной тучей дыма от сжигаемых людей и находящая в себе желание укладывать волосы и тщательно подкрашивать губы…
«Но чего я хочу от нее? Неужели ей всю жизнь ходить нечесаной, потому что она имела несчастье жить здесь, а не в другом месте? Если так рассуждать, здесь не должно было бы остаться ни одного нормального человека, одни помешанные. Кто знает, что я сама делала бы, если б была тут. Может, тоже отмывала бы тарелки от жирной сажи…»
Ока содрогнулась. Нет. Этого она не могла себе представить. Какое счастье, что она была в это время далеко отсюда — там, где воздух чист и люди добры. Какое счастье, что ее миновало нечто более страшное, чем сама смерть: видеть это все — и остаться в живых.
Они вошли в длинный деревянный барак. Здесь был обувной склад. До самого потолка лежат груды ботинок: новых, слегка поношенных, старых, больших и маленьких. Отдельно свалены в кучу оленьи унты. Она узнала их — унты советских летчиков. Ботинки, туфли. Фабричные марки всей Европы. Детские туфельки. И крохотные мягкие, без подошв, башмачки — фетровые, фланелевые, сшитые на ножки, еще не умеющие ходить.
Еще мгновение, и она упадет в обморок. И вдруг, как спасение, как луч света во тьме: она увидела поодаль десять — двенадцать советских солдат и офицеров. Тоже глядят на эти горы ботинок, оставшихся после людей, сгоревших в печах смерти. Лица солдат бледны и сосредоточенны. В их глазах ужас, боль и безграничное удивление. И Ядвиге захотелось броситься к этим незнакомым людям, почувствовать себя среди них, отчаянным криком закричать: «Дорогие мои, заберите меня отсюда, заберите меня отсюда, пробудите от этого страшного сна!»
Спасительно светлой была эта солдатская группа, было в ней что-то утверждающее, что существует сила, противостоящая смерти, ужасу, мерзости. Нет, эти люди не стали бы спокойно вытирать жирную сажу с тарелок, они умерли бы, спасая других, погибли бы в борьбе!
«Но ведь здесь совсем другая жизнь, — твердила она себе. — Там была сражающаяся армия, там была большевистская партия, там был Сталин. Там и на землях, захваченных врагом, знали, что нахлынувшие черные орды будут сметены, там со дня на день ждали своих. А здесь? Пять лет без правительства, без армии, без тени надежды, пять долгих, чудовищных лет… Можно ли мерить такие разные жизни одной и той же меркой?»
И все же Ядвига содрогалась от боли и негодования, что вот рядом с ней идет эта женщина. Вспомнились рассказы о приемах, которые устраивал в Люблине начальник гестапо; на этих приемах местным «дамам из общества» раздавали подарки — меха, платья, драгоценности, собранные в Майданеке, снятые с женщин, свезенных сюда со всей Европы и сожженных в печах. Вспомнились рассказы Стефека, что после освобождения Люблина вокруг Майданека пришлось выставить караулы, потому что местные жители бродили здесь и рылись в этой золе, в этих грудах обуглившихся костей, разыскивая золото, быть может не найденное палачами.
Ей захотелось очутиться опять в Москве — сейчас же, немедленно. Поехать к детям — к тем детям, чьи легкие никогда не вдыхали с воздухом пыль сожженных тел, к детям, которые никогда в жизни не глянут в лицо позора и ужаса. Побыть среди своих, среди тех, кто прошел испытания сурового севера и палящих равнин юга, кто страдал, трудился, падал и вновь поднимался, но и среди тягчайших бедствий всегда оставался человеком. Кто в тяжкие военные годы узнал горькую нужду и голод, но никогда не знал оподления.