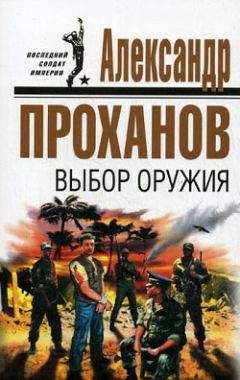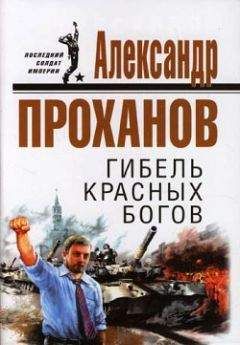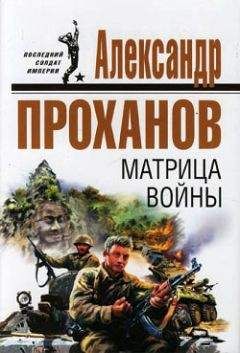Александр Проханов - Сон о Кабуле
– Так, бей! – раскачивался в такт ударам Сайд Исмаил, весь в искрах и красных отсветах. – Бандитов бей, хорошо!.. Империализм бей, хорошо!.. Хлеб сей, хорошо!.. Жена повидай, хорошо!.. Бедным землю давай, хорошо!..
Отковали тягу. Кинули, алую, в корыто, вырвав шипение и пар. Разгоряченные, пили воду, передавали друг другу баклагу. Пил Белосельцев, проливая воду на грудь. Пил Сайд Исмаил, остужая пересохшие губы. Пил здоровяк, выпучивая от наслаждения глаза. Пил безрукий солдат и мальчишка. Долго, устало пил усатый старик. Все испили единую чашу.
С утра, за селением, где кончались ухоженные, изрезанные сохами поля и начиналась пустыня и в ее морщинистую пыльную коросту были врезаны ровные клетки новых угодий, еще сухих, не пропитанных влагой, но уже с подведенными сочными сосудами арыков, за селением стал сходиться народ. Вернувшиеся из армии солдаты в груботканых робах и шапках. Крестьяне, молодые и старые, в нарядных белых чалмах. Ребятишки, босые, в пестром тряпье, дергая за нитки реющих бумажных змеев. Сидели на земле совсем уже древние старцы, с лицами, похожими на пыльный чернослив. Семейство кочевников набрело из пустыни, взлохмаченные, чернобородые. Музыканты разложили на ковриках свои барабаны и бубны, струнные, похожие на сушеные тыквы инструменты.
На грубом столе белела кипа бумаг, притиснутым камнем. У стола собрались уездные партийцы с приколотыми красными бантами. Сайд Исмаил, торжественный, вдохновенный, был готов к речам.
Белосельцев смотрел на крестьян, сдержанных, но исполненных нетерпения, словно в каждом стояло накопившееся за века ожидание. Словно воскресли и смотрели на эти ровные, готовые к воде и к зерну наделы все бесчисленные поколения смиренных людей, рождавшихся и сходивших на нет.
Говорил секретарь уезда, долго и пламенно. Указывал то в пекло пустыни, то на зелень реки, то в небо, призывая в свидетели. Все слушали его, понимали, – и раненый, с перевязанным лбом солдат, и худой долговязый крестьянин, опиравшийся на землемерный аршин. И те, кто недавно в кузне ковал железную тягу. В стороне, блестя умытыми стеклами, стоял синий трактор, весь увешанный погремушками, блестками. На крышу кабины, словно попона, был наброшен ковер.
Говорил Сайд Исмаил. Белосельцев помнил его лицо во время путча и боя, стиснутое гневом и болью. Теперь не о крови, не о пулях были его слова, а о хлебных зернах, готовых упасть в борозду. Уездный партиец отодвинул с бумаги камень, приподнял шелестящую кипу. Стал выкликать поименно, вызывая из толпы бедняков. Вручал им акты на владение землей, и те двумя руками принимали трепещущую бумагу, прижимали к груди, боясь, чтоб не унес ее ветер. Озирались то на родню, то на близкую ниву, не веря, что она уже их.
Ударили бубны, забренчали струны, застучали барабаны. И словно дунуло на людей, сорвало их с места. Кинулись к наделам, сначала гурьбой, тесно, толкаясь, а потом рассыпаясь каждый сам по себе. Бежали, развевая одежды, хватая руками воздух, будто раскрывали объятия чему-то огромному, летящему им навстречу. Добегали, падали, прижимались лицом к земле, целовали, что-то шептали. И уже родня окружала их, подымала. Шли с аршинами, обмеряя участки, выкликали, старый и малый, топотали, сбрасывая башмаки, будто старались оставить на земле побольше своих отпечатков. Приручали к себе, закрепляли ее за собой.
Вдоль арыков шли с лопатами, кетменями, разгребая запруды. Вода начинала литься бесчисленными сверкающими ручьями, проливалась в прочерченные по земле желоба, мгновенно исчезая, пропадая в сухой, не ведавшей влаги почве. Липко чернела, расплывалась влажной сочной силой, окутывая ниву стеклянным свечением. Вода сочеталась с землей. Землемеры, музыканты на поле колебались в прозрачной дымке, окутанные дыханием земли.
Бубны застучали сильнее. Трактор, задрав плуг, волоча пыльные бороны, медленно двинулся к пашне. Все шагали за ним, смотрели на отточенные жала лемехов. Лемехи коснулись земли, погрузились, рванули твердь и, вздувая пласты, двинулись, выворачивая тройную борозду, разбиваемую боронами. Мальчишки бежали следом, верещали трещотки, свистульки, музыканты бубнами славили рождение борозды.
Однорукий солдат прижал к груди плоскую посудину, полную сыпучей бело-желтой пшеницы. Примериваясь, встал в борозду. Рядом с ним, огромный, касаясь плечом, встал кузнец. Кивнули, вздохнули разом, шагнули на пашню, и кузнец, захватывая в огромный кулак горсть зерен, метнул их под ноги. Невидимые, они легли в борозду, вошли в плоть земли, нагрузив ее тяжестью будущего урожая. Шли по земле, засевая ее хлебом, надеждой. И уже им вслед выводили упряжку глянцевитых черных волов, чьи рога украшали бубенцы и ленты. Волы влекли бороны. Так и двигались – трактор, накрытый ковровой попоной, сеятели, музыканты и упряжка волов.
Белосельцев ликовал своим измученным любящим духом. Ему казалось, в распахнутой борозде шагает Нил Тимофеевич, и безвестный, убиенный солдат Шатров, и погибшие джелалабадские механики, все ожили и идут в борозде, окруженные тесной толпой.
Ночью его разбудил Сайд Исмаил.
– Плохое дело!.. Плохие люди пришли!.. Землю назад берут!..
Он рассказал, что в темноте в кишлак пришли вооруженные моджахеды, слуги местного владельца земли. Сказали – кто взял в надел землю, тому отрубят руку и голову. Крестьяне, получившие земельные акты, стали возвращать их обратно. В тускло освещенное помещение уездного комитета входили согбенные молчаливые люди, клали на стол бумаги и, кланяясь, уходили. Сайд Исмаил собирал возвращенные акты на владение земли, складывал в стопку. Клал сверху тяжелый холодный камень.
Глава сороковая
Боевая операция в зеленой кандагарской долине проводилась силами советской бригады и полка афганских «командос». «Зеленка», как ее называли военные, была поделена между советскими и афганскими силами. Предстояло прочесывание, выкуривание моджахедов из кишлаков, из садов и арыков, уничтожение складов оружия. Белосельцев хотел изучить действие афганских «командос», крепость и боеготовность вновь созданных армейских частей.
Афганский полк, готовый к броску, застыл монолитной стеной перед полосатым шлагбаумом, вбирая в себя последних подбегавших солдат в ремнях, автоматах и касках, последние танки, подъезжавшие в дрожании земли. Колонна стояла под солнцем, урча и бросая дым. В люках привстали затянутые в шлемы водители. В кузовах тесно сидели десантники. Всматриваясь в пружинный изгиб колонны, Белосельцев знал, что в это время, в домах кишлаков, другие люди, враги, разбирают оружие, совещаются, выставляют дозоры, бегут, развевая одежды.
В дощатом бараке штаба полковник Азис Мухаммад собрал офицеров, ставил боевую задачу. Склонился над картой почерневшим, обугленным до жестких хрящей лицом, поседевшей алюминиевой головой. Белосельцев подумал, что оба они, каждый по-своему, потеряли любимых, и это делает их похожими и несчастными.
На стене, рядом с красным гербом республики блестела металлическая, расплавленная и затвердевшая струя, вытекшая из сожженного транспортера. Белосельцеву казалось, вместе с этим металлом расплавились и сгорели те недавние дни, когда Маргарет тихо смеялась, держала в руке апельсин, когда Марина подносила к губам золотое румяное яблоко. Жестко, с набухшей жилой на лбу, полковник чертил по карте ногтем, словно делал надрез на зеленой долине, где в красный кружок было поймано название кишлака «Нагахан».
– Самый злой место, – сказал Сайд Исмаил, и Белосельцев был благодарен судьбе за то, что слова видит рядом его мужественно-добродушный лик. – Каждый вечер бандит выходит, бьет гранатомет, винтовка. Вчера два грузовика поджег. Сегодня бандит убьем. Бандит в виноградник сидит, из ямы бьет. По арыку бежит, не видно. Солдат идет, бандит кетмень землю копает. Солдат уйдет, бандит винтовку берет, спину стреляет.
К ним подошел черноусый красивый офицер, пожал Белосельцеву руку.
– Скоро в бой, – сказал он. – Мы здесь добровольцы, студенты. Разгромим врага и обратно в Кабул, в институт!
Он весь пружинил, радовался своей новенькой форме, желтой хрустящей кобуре, своему единству с дымно-железной громадой полка, готовой к броску. Полковник Азис складывал карту в планшет, шел к выходу, сопровождаемый офицерами.
– По машинам! – сказал Сайд Исмаил, увлекая Белосельцева к выходу.
Полк шел через Кандагар, раздвигая задымленным железом лепное хрупкое скопище, клубящееся разноцветье. Разрывал звенящие вереницы автобусов. Сдвигал к обочине сыпавшие блестками моторикши. Разгонял цокающих розовых осликов. Теснил многолюдье толпы. Мелькали мечети, торговые ряды, вывески гостиниц, харчевен. Город был огромным лоскутным одеялом – то синий, то красный лоскут.
Белосельцев сидел на кромке люка, на остром холодном ребре, чувствовал грудью студеное давление ветра, запахи азиатского города. Жизнь, в которую вторгалась колонна, казалось, не замечает ее. Послушно уступает место, как вода, сразу же смыкаясь сзади. Но вот он поймал на себе угрюмый недобрый взгляд, мелькнувшего на пороге дуканщика. На мгновение раздвинулся полог моторикши, блеснула серая, как слиток, борода, быстрые нестариковские глаза. Из толпы, из окошек, сквозь ветки голых, усыпанных семенами деревьев чудились зоркие, провожающие взгляды, неслась обгоняющая весть о продвижении полка.