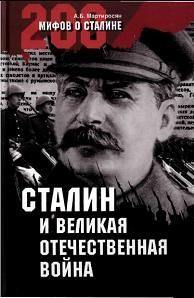Григорий Бакланов - Пядь земли
В сенях сухо и жарко, солнце бьет из-под выщербленной двери. Глиняный пол, стертый деревянный порог и вся дверь — в солнечных полосах. Я распахиваю ее и зажмуриваюсь: после сумрака глазам больно от солнца. Белая слепящая стена дома, желтый песок, зеленая листва деревьев в сверкающих каплях и синее летнее небо над головой. В воздухе жарко и влажно от земли. Парит. На непросохшем песке еще не затоптанные следы крупных капель.
Издали вижу за домом двух военных девчат в погонах младших лейтенантов. Сидят на завалинке. Вот отчего тут собрался весь взвод! Одна из девчат полная блондинка с большой грудью. Лениво улыбаясь, она вполуха слушает Саенко: при ее достоинствах и это — награда. А тот, ерзая и оглядываясь, что-то шепчет ей, блестя всем лицом. У другой живые черные глаза, крупная родинка на верхней губе и вместо пилотки — синий берет со звездочкой.
Я почему-то сначала подхожу не к ним, а к Васину. Босиком, в летних галифе, завязанных у щиколоток, в синей майке — тело у него белое, молодое, здоровое, а шея и кисти рук коричневые от загара, — он оседлал железный лом на табуретке и вдохновенно стучит по нему молотком, что-то сгибая из жести. На земле уже стоят несколько жестяных кружек: совсем маленькая, больше, больше… Дорвался до работы. Когда он все это успел сделать? Я беру с земли самую маленькую кружку, верчу ее в руках.
— А это зачем?
Васин подымает от работы веселое, все как в росе лицо.
— Норма. Сто грамм. Чтоб старшина не обмерил.
И смеется:
— Был обрезок, я и согнул. Чего жести пропадать зря?
Я верчу кружку в руках, рассматриваю внимательно: и дно и внутри. В душе я завидую развязности Саенко. И девушкам, наверное, с ним легко.
— Вот это и есть начальство, из-за которого нельзя шуметь? — громко спрашивает младший лейтенант с родинкой. Черные насмешливые глаза смотрят с вызовом.
Сейчас надо бы на лету подхватить этот тон, брошенный мне, и тогда все будет легко и просто. Но у меня с детства неприятная особенность, с которой я не могу справиться: я краснею. Причем всякий раз невпопад, и даже, бывает, неожиданно для самого себя. Краснею так мучительно, что вокруг всем становится неловко. И сейчас вдруг чувствую, что могу покраснеть. И сразу теряю уверенность. Я беру с земли вторую кружку, хмурясь, строго осматриваю ее, словно принимаю у Васина работу. Глупо, ну глупо же! Васин смотрит на меня, ждет. И все смотрят на меня.
— О-о, начальство строгое!
Только бы не покраснеть. Кажется, один Панченко одобряет мой строгий вид: он вообще ревниво печется о моем авторитете. Я становлюсь еще строже.
Выручил меня связной командира дивизиона Верещака. В пилотке поперек головы, с карабином, из которого он за всю войну так, кажется, и не выстрелил по немцу, Верещака козыряет, запыхавшись:
— Товарищ лейтенант, вас той… командир дивизиона звуть!
Глаза, как всегда, обалделые.
— Пилотку поправьте!
Верещака хватается за нее обеими руками. Из-за отворота падает на землю окурок. Верещака подхватывает его, прячет обратно.
Начальственно строгий, как журавль, я иду за связным в штаб дивизиона и слышу позади голос блондинки:
— Слишком серьезные… Девушками нe интересуются.
А я ненавижу себя в этот момент. И настроение у меня окончательно испорчено.
Зато у Яценко настроение хорошее. Это видно сразу. В новом жарком кителе из английского сукна, в широченных галифе с напуском на колени и кантами, в сверкающих сапогах, в фуражке со сверкающим козырьком, он победителем стоит посреди штаба под низким побеленным потолком хаты, слушает писаря. Тот, нe подмигивая — политично прижмуривая глаз и понижая голос в особо тонких местах, рассказывает, по каким соображениям костюм Яценко был сшит раньше, чем командиру первого дивизиона. Тут, оказывается, тоже своя субординация.
С недавних пор завелись в полку два портных, и зеленоватые, мягкого сукна английские шинели стали срочно перешиваться на офицерские кителя и брюки. Вначале были сшиты костюмы командованию полка, теперь дошла очередь до командиров дивизионов. Причем шили не по какому-либо порядку, а в виде поощрения, так что тот, кто обмундировывался первым, мог считать себя в некотором роде награжденным. И писарь вел свой рассказ так, что многое в нем щекотало Яценко самолюбие.
— Видал химика? — Яценко в ответ на мое приветствие кивком головы приглашает послушать.
Это тоже поощрение своего рода, что меня приглашают послушать. Был бы я сейчас командиром взвода, Яценко не пригласил бы: с командирами взводов он строг! А теперь сразу видно, меня приблизили на определенную дистанцию. Для писаря поощрение в словечке «химик». Так Яценко называет людей ловких, оборотистых и почему-то всегда писарей.
— Химик! — шепотом повторяет Верещака с восторгом рвения, словно хочет запомнить. И хихикает: смешно!
— Никакой химии, товарищ капитан! — честно таращится писарь; сразу видно врет!
Яценко доволен. Зачерпнув из котелка полную горсть шелковицы, головой указывает мне на писаря. «Видал чертей? Я их знаю!» — и, как семечки, кидает ягоды в рот с расстояния, быстро прожевывая, причем все мускулы лица сразу приходят в движение. От спелой шелковины рука его как в чернилах, а сам он в зимнем толстом кителе выглядит нахохлившимся, но доволен, поскольку награжден. Яценко наконец вытирает руку.
— Отвоевался?
И смотрит на меня с удовольствием, оглядывает с ног до головы. Это, наверное, в самом деле приятно: видеть человека, которого сам ты повысил в должности.
— А ну покажи ему список награжденных.
Яценко, отойдя к окну, заложил руки за спину, улыбается загадочно. У меня от радостного предчувствия сжало сердце. За что? За Запорожье? Но тогда наш полк перекинули в другую армию, и говорили, наградные затерялись. А может быть, нашлись? Бывают такие случаи. Или за Ингулец?
Множество честолюбивых надежд проносится в голове моей, пока я со сладко замершим сердцем беру список из рук писаря. Что? «Звездочка»? «Отечественная война»? А может быть, «Знамя»? Под Запорожьем, говорят, к «Красному Знамени» представляли. Я успеваю даже подумать, что об этом узнает младший лейтенант с родинкой, перед которой я только что смущался. И это приятно мне сознавать.
Буквы скачут у меня перед глазами. Орден Красного Знамени — один человек. Красной Звезды — трое. Меня нет. Растерянно смотрю список награжденных медалями. Последняя фамилия как черта над обрывом. А дальше — пустота! Как же так? Я шел сюда, ничего не имея, и сейчас не имею ничего. Но я чувствую себя ограбленным. И тут от отчаяния, наверное, я делаю то, о чем после много раз вспоминал со стыдом. Я переворачиваю список и смотрю на обороте, на чистой стороне. Яценко хохочет:
— Тебе что, мало? Сколько из его взвода награждено?
— Трое, товарищ капитан!
— Видишь — трое! — Яценко чистой рукой отбирает у меня список. — Васин твой?
— Мой.
— «За отвагу». Панченко твой?
— Мой.
— «За отвагу». Парцвания твой?
Был мой. Он как-то говорил мне в откровенную минуту, ласково блестя своими круглыми, черными, будто слезой подернутыми глазами: «Ай, товарищ лейтенант, на Кавказе столько орденами награждено! За табак! За чайный лист! За цитрусовые! Все женщины с орденами. Стыдно, на войне был и без ордена приехал. Скажут, не воевал Парцвания». На нем, на торговом работнике, боевая серебряная медаль на черном костюме была бы заметней, чем орден на летчике.
— Убит Парцвания. А Шумилин награжден? Я что-то не видел его фамилию.
— Шумилин. — Яценко бросил в рот ягоду, сверху вниз ведет пальцем по строчкам. — Шумилин… Шумилин… — Бросил еще несколько ягод в рот, быстро прожевывает. Прямые подбритые брони сошлись у переносицы. — Это какой же Шумилин?
— Связист. Лет сорок пять, пожилой такой.
— Шуми-илин… — Палец срывается с бумаги. — Нет, нету. Он что, подвиг какой-нибудь совершил?
— Никакого он такого подвига не совершал.
Мне вдруг так обидно становится за Шумилина, что я уже не могу себя удержать.
— С сорок первого года воюет человек, какой еще подвиг нужен? За труд — за свеклу, за лен — орденами награждают. Что ж, он на фронте меньше потрудился, меньше земли лопатой перекопал? Под бомбами, под снарядами… Ранен три раза. Такой связист, что куда угодно бери с собой — пойдет, слова не скажет. Хоть на этом же, на плацдарме…
Писарь, сразу став серьезным, выражает официальное сочувствие. Он грустно кивает головой, и медаль на его груди качается и поблескивает.
— Постой, постой! — останавливает меня Яценко, поражаясь такой горячности. — Да ты что, собственно, меня за советскую власть агитируешь?
И хохочет на весь штаб, начальственно уверенный в своем остроумии.
— За советскую власть агитируешь, — шепчет Верещака, будто заучивая. Товарищ капитан если скажут, так уж правда скажут… — И хихикает: смешно.