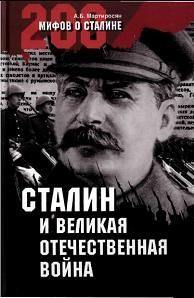Григорий Бакланов - Пядь земли
От колонны, придерживая рукой автомат, подбегает к нам конвоир. Воротник гимнастерки промок. Под мышками темные круги до карманов. Глаза просят пить. Мы даем ему фляжку, и он долго пьет, задыхаясь. Немцы проходят, скашивая глаза. Другие стараются не смотреть.
— Спасибо, товарищ лейтенант, — говорит боец, напившись. — А то от жары голос потерял.
И вытирает пилоткой сразу вспотевшее лицо. Мы насыпаем ему полную пилотку винограда. Он благодарит еще раз и убегает. А пленные все идут. Егоров смотрит на них, и многие чувства сменяются в его глазах. Четвертый год войны. Он в первый раз видит немцев.
Из толпы пленных кто-то кричит нам и подымает над головами сжатые руки, словно приветствуя. На минуту мелькает улыбающееся чернявое лицо. В этом месте среди дымчато-синих мундиров немцев видно зеленое обмундирование румын. И тогда мы разбираем, что оттуда кричат: «Руманешты! Руманешты!»
— Что им, медаль за это? — говорит Саенко.
Я тоже ничего не понимаю. Словно очнувшись, Егоров отрывает взгляд от пленных.
— Видите ли, — говорит он, — дело в том, что Румыния вышла из войны… По радио передавали.
Вот, оказывается, какие события творятся в мире! А над головами пленных еще несколько раз подымается и исчезает удаляющееся чернявое веселое лицо.
Васин заметил, что один из немцев несет, прижав к груди, четыре большие банки консервов. Подойдя к нему, он молча отбирает — делает это спокойно, серьезно, как все, что он делает, — и несет консервы семейству молдаван.
Пленных уже прогнали, а он все еще стоит там, и молдаване что-то говорят ему, а Васин, небольшой, коренастый, с выпуклой грудью, весь освещенный солнцем, смеется и отрицательно трясет головой. Возвращается он оттуда, ведя за руку мальчика лет пяти.
— Вот. Выменял. — И смеется.
На мальчонке короткая, с короткими рукавами, когда-то белая, а теперь грязная и разорванная на животе рубашонка. Короткие обтрепанные штаны до колен. В теплой пыли черные от загара и грязи босые ноги с туго торчащими маленькими пальцами. Шапка спутанных смоляных волос, — они даже не блестят, такие пыльные. А лицо тонкое. И большие, как черные мокрые сливы, печальные глаза. Они чем-то напоминают мне глаза Парцвании.
Я подзываю его к себе, сажаю на здоровое колено. Он дичится вначале, но мне тоже когда-то было пять лет, я знаю, чем его привлечь. Я отстегиваю от пояса большой кинжал в лаковых ножнах и даю ему. Несмело поглядывая на меня, он тянет кинжал за рукоятку, и когда из ножен блеснуло широкое лезвие, он забывает обо мне. А я тем временем глажу его волосы, которые легче состричь, чем расчесать.
Далеко, у края степи, как снеговые горы, лежат облака, осиянные солнцем. Там встают все новые дымы разрывов. Дорога уходит туда. Если суждено мне пройти ее до конца, я хочу, чтобы после войны был у меня сын. Чтобы я посадил его на колено, родного, теплого, положил руку на голову и рассказал ему обо всем.
Прогоняют еще группу пленных. Мальчик сидит у меня на колене. Я тихонько глажу по волосам его спутанную, теплую от солнца голову, а он играет моим оружием.
Январь 1959 г.