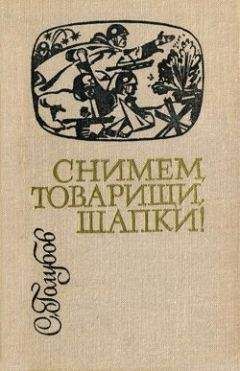Аркадий Первенцев - Над Кубанью. Книга вторая
— Гармошка дело веселое.
— Веселое, когда к месту. А так взял бы ее да об колено. Вчера объясняю им положение, ведь бой скоро, вдруг вижу, клевал, клевал носом какой-то матрос с гармошкой, потом встрепенулся. Ремень на плечо и как жахнет ни к селу ни к городу:
Ночка темна. Я боюся.
Проводи меня, Маруся.
— Неужели про Марусю? — расхохотался Хомутов.
— Про Марусю.
— Кто же он? Из анархистов?
— Какой там анархист. Хороший парень — моряк с «Хаджи-бея»… Голубые глаза, улыбчивый. Поговорил с ним после, смеется. «Хотелось, говорит, лады попробовать, не ссохлись, мол?»
— Дисциплина слабенькая, — согласился Хомутов. — Выправимся, Ефим. Война свое скажет. Как раза два пробьют кишку такой Марусе, враз в ум придет… Война — это не супруженицу за мякотину щупать, как говорил Степка Шульгин.
— Какой это?
— Я же тебе рассказывал. Тот, кого Гурдай выпорол.
— А… помню…
По сторонам дороги еще держался снег. Кое-где удлиненные проталины. На бугровинах обнажились подвядшие озими. Слева, у потемневшего края степи, угадывалось кубанское правобережье. На дрезине, вместе с ними, ехал солдат в новой шинели и каракулевой шапке. Хомутов гнал дрезину посменно с солдатом. Барташ вооружился биноклем. Изредка он отрывал его от глаз, окидывал мягким взглядом ровную степь, хатенки кошей и оголенные купы деревьев.
— Скоро пахать, сеять. Придется ли?
— Придется, — уверенно сказал Хомутов. — Я сам думаю лишних две-три десятинки прихватить, как поуправимся. Надоело овчины квасить, еще чахотку заработаешь.
— Лошади целы?
— Целы.
— Кто ж ухаживает?
— Жена.
— Тяжеловато ей одной, Ванюшка. Прихварывает она.
Вдали, на уровне станции Ладожской, показался густой дымок. Вскоре появился медленно идущий поезд.
— Броневик. Надо поворачивать.
С бронепоезда их заметили. Знакомый Хомутову клубок. Докатился звук. Снаряд перелетел за пологий кур-ганчик. Гулко разорвался, стремительно взлетело облачко, а потом медленно поплыло, скручиваясь и редея. Дрезину гнали Хомутов и солдат.
— Упаришься, — сказал Хомутов, одной рукой расстегивая крючки шинели.
— Видать, шестеренки несмазанные, чего-то тяжело, — заметил солдат, сбивая на затылок шапку.
— Тише гоните, — попросил Барташ, — слишком поспешное бегство.
Хомутов разогнулся.
— Могли ж зацапать.
— Гляди-ка туда, — сказал Барташ, передавая ему бинокль.
Над волнистой линией степи зачернели верховые; их было немного, и они были далеко. Потом черные точки перевалили через гребень и пошли рысью, очевидно по дороге.
— Сотни полторы, — определил Барташ, — ишь как гонят.
— Казаки?
— Пожалуй, нет. Очевидно, черкесы.
— Шустро идут — значит черкесы, — утвердительно сказал солдат.
— Вероятно, черкесы Эрдели, — согласился Барташ.
В начале февраля началось наступление на Екатери-нодар. Революция пробовала свои вооруженные силы. Под первым натиском почти по всему фронту белые откатились, оставив линию первого оборонительного рубежа.
Отряд Хомутова дрался под станицей Усть-Лабинской уже больше недели, и только половина станицы находилась в руках красных. Подбадривали закубанские сообщения об удачном продвижении левобережных отрядов. В бассейне многоводной Лабы стрелковые полки северо-кубанцев и северо-лабинцев оттеснили кавалерию Гулы-ги до станицы Некрасовской и аула Тахтамукай. От Некрасовской намечался фланговый удар по группе полковника Лисовецкого.
— Как дела, Иван? — спросил Барташ, прибывший под Усть-Лабинскую.
— Туго, — отирая влажный лоб, ответил Хомутов. — Никак с Усть-Лабы не вышибешь. Уперлись, как бараны в новые ворота.
— Вот тебе и веселое дело, — подшутил Барташ.
— Да, начали было стоя, под гармошку.
— А теперь?
— Посгинались ребята. Маскироваться научились. Шутка сказать, уже пятнадцать богатунпев с катушек долой. У нас село невеликое. Реву будет немало. Хоть домой не возвращайся…
Барташ понимал состояние друга. Хомутов тяжело переживал смерть людей, знакомых с детства, смерть тех, кто доверил ему свои жизни. Тяжелая ответственность ложилась на плечи командира, тем более выборного. На защиту революции становились дружины, сформированные из земляков. Боевая дружба подкреплялась дружбой землячества, но одновременно чрезвычайно остро ощущался урон.
Барташ покусал губы.
— А все же нам будут завидовать, Ванюшка, честное слово будут завидовать.
Это было неожиданно для Хомутова.
— Живому завидуют и счастливому. А если копыта отдерут, зависть-то небольшая, прямо скажем, ерундовая.
— Будут завидовать этим нашим дням, — убежденно сказал Барташ, — хорошей завистью завидовать. Ведь нам выпало счастье революцию закрепить, новое Советское государство от врага отбить. Трудно? Конечно, трудно. Хорошее дело без трудов пе дается. Без трудов можно какой-нибудь пустяк соорудить, Ванюшка. Будут нас вспоминать добрым словом, благодарить будут, изумляться и уважать.
— Все может быть, — уклончиво, но с просветленным взглядом своих внимательных и строгих глаз, сказал Хомутов, — с маленькой кочки далеко не увидишь. А у меня горки нет под ногами. Все больше под ноги глядишь, чтобы сам-то не споткнулся. И дальше как на двадцать четыре часа ничего не загадываешь…
— Вперед не мешает смотреть, — посоветовал серьезно Барташ, — за нас смотреть никто не будет. Нам доверено, Иван, и мы ответ будем держать, если плохо сработаем. Скажут нам: эх вы, мурмышки несчастные. Какое дело вам доверили, а вы не уследили. Вот когда уже завидовать не будут, а только презирать…
— Ну, пойдем поглядим. Небось за этим же прислали… Чтобы мурмышкой не обозвали. Кстати, что такое мурмышка, Ефим?
— Такая удочка для подледного лова. Пустячок для тихого помешательства…
— Ишь ты. «Мурмышка»…
Они шли по улице осторожно.
По станице то там, то здесь вспыхивала перестрелка. Улицы простреливались пулеметами, скрытыми за канавами и заборами.
У тополевого бруса, обычно служившего хозяину местом вечерних посиделок, уткнулся человек, и на грязноватом снегу замерзло ветвистое пятно крови. Убитый валялся между расположениями воюющих сторон. Окна большинства домов были забиты.
— Жители?
— Там, — указал вперед Хомутов.
— От нас сбежали?
— Да.
— Почему же это?
— Казаки.
— А не грабили?
— Было и это. Два-три случая.
— Меры?
— Израсходовали виновных.
Барташ перемолчал.
Ночевали в низенькой хатенке иногороднего сапожника. Хозяин не прекращал работать, хотя заказчики сбежали па ту сторону. Горела коптилка, в комнате пахло мокрой кожей, клейстером и гарыо. Спали на житной соломе, прикрытой латаной дерюгой. Обуви не снимали. Часто приходили посыльные, расталкивали Хомутова, называя его просто Ванькой; уходили.
— Первую ночь посплю, — сказал Хомутов, — разрешу при начальстве.
Барташ внимательно присмотрелся к другу: Хомутов почернел и значительно исхудал.
— Сегодня спокойно что-то, — сказал Хомутов и повернулся спиной.
— А где же Трошка?
— Только вспомнил. У Василия Ильича практикуется. В артиллерии.
— Это правильно.
— Ясно, правильней, чем па побегушках, — отозвался сонным голосом Хомутов. — У нас всегда так: как мальчишка, так на побегушках, посыльным. Ноги есть — это одна заслуга, а когда котелок на плечах варить начнет — другая…
Под утро их разбудил встревоженный хозяин.
— Кажись, за заказом возвращаются, — буркнул он.
Совсем близко гремели орудия, и кривые оконца дребезжали от взрывов. Ворвались двое красногвардейцев.
— Ванька, тикать! Жмут кадеты!
Хомутов и Барташ выскочили из хаты. Мимо них по улице бежали вооруженные люди, неслись повозки. Торопливо работал пулемет, и казалось — воздух наполнен шмелиным жужжанием пуль.
— Ребята, — закричал Хомутов, прыгнув к убегающей толпе, — товарищи!
— Орешь! — гаркнул кто-то и на миг заслонил его своей огромной фигурой.
Барташ бросился в гущу и потащил за собою Хомутова.
— И ты испугался, — бормотал Хомутов, наклоняя к другу горячее лицо, — все мы до первого боя…
— Надо, так надо, — говорил Барташ.
Хомутов на ходу заряжал карабин. Все схлынули. Улица сразу очистилась и стала какой-то тихой и страшной.
Вон небо прорезал хвостатый сверкающий меч, где-то впереди вонзившийся в землю. Быстро померк пунктирный светлый след.
— Ракеты, — сказал Барташ.
Канонада усилилась. Барташ и Хомутов достигли окраины.
Тут еще больше было беспорядка и сумятицы. Воинские части перепутались. Ординарец командира полка прибыл с устным приказанием об отходе: сбиваясь и путая, он сообщил о том, что в тыл прорвалась конница генерала Эрдели.