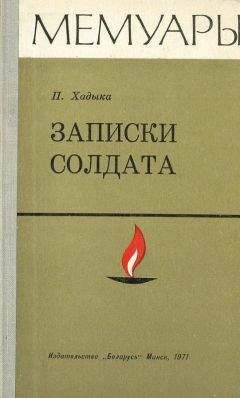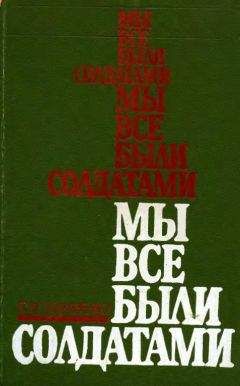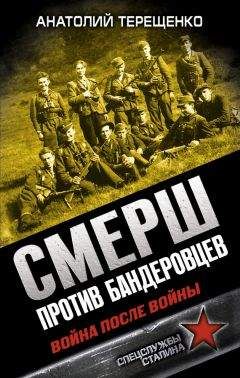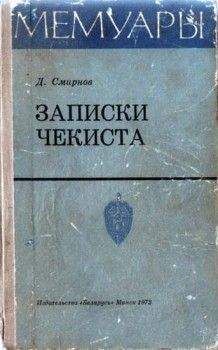Александр Проханов - Столкновение
Жанр политического романа неоднороден. Кроме того, его частенько путают с романами «якобы историческими», замешанными на интимных подробностях быта великосветских и венценосных особ, или же с развернутыми журналистскими записями, облаченными в примитивные романные одеяния. Политический роман — это роман-расчет, роман-предвидение, «Гиперболоид инженера Гарина», другими словами.
В «Пресс-центре» много живописаний западноевропейского быта, но это не суть, а фон, вполне оправданный замыслом романа. Герой романа не должен быть бесплотной моделью, тенью. Иначе будет слышно, как стучат ходули. Выбор героя произведения — основа удачи. Тема, география, сюжетные ходы — суть арабески и виньетки; личность, сконцентрировавшая в себе время, его стремительный бег, его созидательную наполненность, его потребность в действенной доброте и мучительные поиски оптимальных разрешений его проблем, — вот тот формообразующий стержень, а стало быть, и этическая атмосфера, которая только и делает то или иное произведение искусством, сообщая ему всю мощь явления жизни. Герой романа писатель Дмитрий Степанов — живой человек, наш современник, социально активная личность — оказался в самом центре схлеста альтернативных сил современности: демократии и диктатуры, интернационализма и национализма, обывательского миросозерцания и гражданской обеспокоенности. Советский писатель не может стоять в стороне от происходящего в мире, ибо за ним — напоминанием и побуждением к действию — опыт Эрнеста Хемингуэя, Михаила Кольцова, Мате Залки, Ильи Эренбурга, Константина Симонова… Как зародился замысел романа?
«За рулем машины, — вспоминает писатель. — По роду журналистской деятельности, представляя «ЛГ» в Западной Европе, я мотался из Бонна в Амстердам, из Гааги в Брюссель, из Женевы в Париж, из Вены во Франкфурт-на-Майне. С процесса Ментона, убивавшего во время войны наших людей и грабившего наши музеи, ехал на встречу с начальником личного штаба Гиммлера обергруппенфюрером СС Карлом Вольфом, с бывшим министром «третьего рейха» Альбертом Шпеером, с Отто Скорцени. Наблюдал за жизнью бирж Цюриха и Мадрида, спешил на аукцион в Швейцарию, где пускали с молотка русские картины, заворачивал во Францию к Шагалу, а потом к Сименону, а потом к Олдриджу, стараясь привлечь внимание западной интеллигенции к трагической судьбе наших культурных сокровищ, а потом в полицай-президиум Гамбурга, где расследовалось дело о контрабанде гонконгских наркотиков. Были встречи и с Рокфеллером, и с Хаммером, и с Тиссеном; с руководителями «Мицубиси» и «Круппа», «ИТТ» и «Роял Датч»… Я хотел собрать все это воедино; во мне возникало ощущение общей мелодии, как-то связывающей весь этот калейдоскоп, я хотел разглядеть за ним не только политические, но и человеческие структуры. Постепенно в ходе встреч рождались образы героев — «вполне обыкновенные» миллионеры, обутые в чиненные башмаки, в сознании которых постоянно боролись две концепции: конфронтация или диалог. В категорию «героев» переходили и мои друзья из мира западной журналистики, европейские ученые, латиноамериканские «герильерос». Все они как бы принимали на себя мое желание исследовать две эти концепции, и, хотя не трудно догадаться, на чьей стороне в этом споре я стоял, они — мои персонажи — обретали подлинную самостоятельность, и художественная задача усложнялась: уже не только объективное исследование политической ситуации, но и тех, кто ее — с моей точки зрения — определял. А значит — человеческое поведение, которое никогда не бывает одномерным, плоскостным…»
Не могу не заметить в этой связи, что Ю. Семенов был, пожалуй, одним из первых в нашей литературе, кто совершенно по-новому стал писать образы «врагов».
Вместо карикатурных недоумков, столь типичных для отечественной прозы тридцатых, сороковых и пятидесятых годов, он, опубликовав в конце пятидесятых свой первый политический роман «Дипломатический агент» (кстати сказать, с тех пор эта книга не переиздавалась в СССР ни разу), нашел совершенно новые краски для тех, кто противостоял идее добра; мы встретились с живыми людьми, а не с ходульными злодеями, с людьми, отстаивавшими свою, отличную от нашей, общепринятой, идею. Особенно рельефно это прописано в его циклах «Альтернатива» и «Позиция». Не в этом ли, собственно, новом качестве исследования и кроется растущий интерес к его политическим хроникам — как к историческим, аналитическим повествованиям?
III
…С самых первых дней нашего знакомства для меня было необычайно интересно: откуда в Семенове столь острое чувство «политического», первородное стремление ощутить схлест альтернативных сил. Я спросил его об этом.
Ю. С. В моей тетрадочке (а я вел дневники с детства) в 1942 году — мне тогда было одиннадцать, — когда папа улетел к партизанам «ставить» типографию, я так зафиксировал понятное волнение: «Колышатся ели, их ветер качает. Шумы, крик птиц и журчанье ручья — все сливается вместе… О, лес!» Когда отец возвратился в Москву, я прочитал ему эти стихи. Он — единственный раз в жизни — мне не поверил, сказав, что это переписано у кого-то из русских поэтов.
В мае сорок пятого я был с отцом в Германии, видел дымящиеся руины Берлина, солдат-победителей, фронтовых журналистов, американских парней на «джипах», снимавшихся с нашими, — в обнимку, с улыбками открытого дружества… Прекрасное было время, кстати говоря, время надежд и света…
А. Ч. А дальше?
Ю. С. После окончания Московского института востоковедения, где я специализировался по языкам пушту и фарси, — это совпало с возвращением отца из тюрьмы, он был оклеветан в конце сороковых — меня направили на работу в Афганистан. Там потихоньку стала вырисовываться история поляка И. Виткевича — первого политического представителя России в Кабуле. А за его биографией мне хотелось рассмотреть проникновение в Афганистан Англии. Я тогда лишь подступался к детективу, к исследованию (английское to detect — исследовать). Но окончательно — еще не решался. Видимо, боялся снобов. Мне и по сей день от них достается. Считается почему-то, что детектив — жанр несерьезный, а каждый сноб — он ведь невероятно авторитарен. Я ни в коем случае не смею себя сравнивать с Федором Михайловичем Достоевским, но как же ему доставалось поначалу от всякого сорта «литературных судей» за нетипичное, прозападное и тому подобное построение сюжета.
А. Ч. Скажите, а разве не то же самое происходит? Ни в одном из отчетных докладов Правления Союза писателей СССР не было и нет ни слова о детективе!
Ю. С. Спасибо, что не очень хулят. Но снобизм живуч! Кроме того, обладает поразительными способностями к мутации — как вирус гриппа! В данном случае он проявляется в нежелании анализировать существующее, в попытках отгородиться от реальностей жизни. «Народ читает? Не довод! — брезгливо кривятся снобы. — Детектив — массовая культура, надо работать над вкусом, заставлять читателя обращаться к тому, что мы считаем важным…» Примерно так они и рассуждают.
А. Ч. Ничего, жизнь поправит!.. Едем дальше?
Ю. С. Вернувшись в Москву, я издал «Дипломатического агента», через какое-то время ушел с кафедры истории стран Среднего Востока исторического факультета МГУ профессора И. М. Рейснера (брата Ларисы Рейснер, прообраза Комиссара в «Оптимистической трагедии»), а затем, уже в качестве корреспондента «Огонька», был свидетелем поразительного. 12 апреля 1961 года, когда самолет сел на битую льдину, чтобы вывезти участников полярной экспедиции, мы увидели, что полярники прыгают от радости, кричат что-то. Вообще-то они люди сдержанные, и нам было даже как-то странно: сели и сели, эка невидаль! Оказалось иное — ребята только что услышали по канадскому радио, что наш, русский, Юрий Гагарин облетел «шарик». Такие вот бывают совпадения. А в итоге — написал книжку «При исполнении служебных обязанностей»: трагический тридцать седьмой год; двадцатый съезд; новая нравственная атмосфера, реабилитация честнейших ленинцев, павших жертвой наветов и клеветы…
В своих романах о Штирлице, напечатанных как раз в застойные годы, Семенов сделал героями своих хроник, обращенных отнюдь не к элитарному читателю, Постышева, Блюхера, Уборевича, Кедрова, Уншлихта, Петерса, Краснощекова, Янсона, Крестинского. В романе «Бриллианты для диктатуры пролетариата» Семенов привел ленинское письмо к Дзержинскому, в котором Владимир Ильич писал: «Добавить отзывы ряда литераторов-коммунистов (Стеклова, Ольминского, Скворцова, Бухарина и т. д.)». Кто-то может возразить: что за мужество?! Ведь не кого-нибудь, а Ленина цитировал! Отвечу: далеко не всякую ленинскую цитату дозволялось в те годы публиковать.