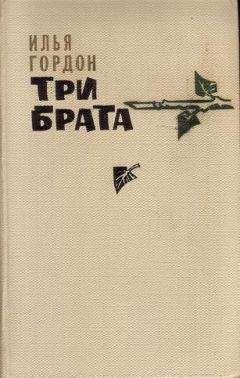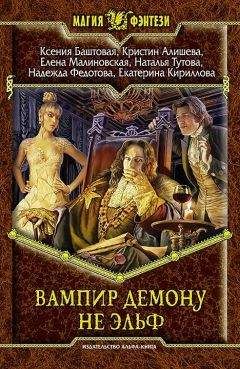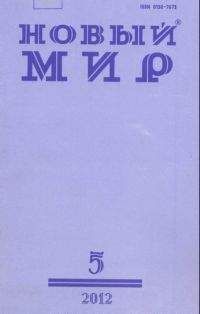Михаило Лалич - Избранное
За Ягошем шла очередь мальчика Томицы или Николицы, того, что из Никитича, однако ему нельзя было вылезти, чтобы не ступить в кровь. Томица словно окаменел. Скорее всего, он потерял сознание — потом мне приходилось видеть немало взрослых, которых вид крови приводит в полную растерянность. Но нам этот обморок Томицы пришелся кстати: не случись его, мы бы так подряд под пули и выскакивали, до последнего человека. За Томицей стоял Благо, за Благо — Велько, потом шел я и остальные. За моей спиной крикнули:
— Продвигайся, брат, что застопорились!.. Или меня пропусти, если тебе неохота наверх лезть!
Я кричу на Велько, Велько — на Благо, а Благо в свою очередь орет:
— А ну-ка, Томица, освободи проход!.. Выскакивай, вылезай или сдвинься в сторону, осел ты этакий!
Пещера гудит голосами, отраженными камнем, смешиваются крики и отзвуки, качается под ногами лестница — вот-вот упадет. Нас охватывает паника, всеобщее безумие, мы толкаемся, пинаем друг друга винтовочными стволами. Отныне мы не друзья и не товарищи, никто не узнает друг друга, нам не до того, единственное, что ты еще в состоянии осознать: кто-то заклинил перед тобой проход, закрыл тебе небо и солнце, душит тебя, отнимает твою жизнь и честь на веки вечные!.. И тут мы слышим, как Радосав Лешкович сверху зовет Благо — старшего среди нас. В первый момент крик этот подействовал ободряюще: мы было решили, что четников разогнали, хотя и непонятно, каким образом… Но вот в тишине прозвучали слова:
— Все наши товарищи погибли перед пещерой… Я ранен и попал неприятелю в руки!.. Пещера окружена брджанским батальоном четников. Нечего вам выскакивать, или вы оружие сдавайте, или там кончайте сами с собой!
Это кажется мне невероятным, я делаю усилие вырваться из кошмарного сна и слышу голос четнического офицера, который накинулся на Радосава:
— Ты что там за чушь несешь!.. С чего это им кончать с собой?.. Чем с собой кончать, пусть лучше сдаются! Вот вам честное офицерское слово, что я их не расстреляю и итальянцам не сдам. Их будет судить национальный суд, и пусть они перед судом защищаются. У кого руки кровью не замараны, тот оправдается, так ты им и скажи, и нечего им с собой кончать!..
Радосав повторил нам то, что мы уже слышали, а тем временем в пещере поднялся шум:
— Вылезай наверх под пули!
Благо орет:
— Тут из-за Томицы не пройдешь!.. Застрял он, то ли ранен, то ли задохся — не поймешь… А ну, все подайте назад, пока я Томицу из прохода вытащу.
Мы отодвинулись к хижине, чтобы освободить место. Томицу вытащили, Благо привалил его к основанию лестницы, но проход по-прежнему остается загороженным — обхватив руками обмякшего в беспамятстве Томицу, Благо уговаривает нас:
— Вы что, сдурели, прямиком под пули, как зайцы, выскакивать, вместо того чтобы обороняться героически!.. Сюда им ни за что не прорваться, будь у них хоть стальные клыки. Продуктов и боеприпасов у нас хватит, надежней блиндажа отсюда до Сталинграда не найдешь!
Но кое-кому неймется, все равно на Благо наседают, чтобы он им путь освободил, но он не слушается, не двигается с места и знай твердит свое, приплетая сюда первое, что на ум придет:
— Здесь мы в осаде хоть месяц выдержим, по крайней мере людям будет что вспомнить, о нас легенды и песни станут складывать, как складывают песни о славных защитниках осажденного города Сигета…
Гвалт поднялся невообразимый — а ну, посторонись, — но Благо крепко стоит на своем:
— А тем временем к нам, может быть, помощь подоспеет от товарищей из покраинского комитета или от Балетича…
Его в грудь толкают — нечего, мол, детские сказки рассказывать, нечего тут дожидаться, самое лучшее — под пули прямиком, пока не остыли!.. Но Благо уперся и ни с места, нервы у него крепкие, что канаты, снова он нам рисует туманные перспективы, какие-то замысловатые доводы твердит и, однако же, постепенно завоевывает себе сторонников, и вот уже вокруг него перешептываются, да и мне начинает внутренний голос напевать: лучше переждать здесь, чем под пули выскакивать, — смерть от нас никуда не денется, не замедлит явиться…
Стали голосовать — и разделились пополам: четыре голоса с одной стороны, четыре — с другой, ремиз, как говорится, взяточный недобор!.. Снаружи нам кричат, предлагая сдаваться, наши отвечают им ругательствами. Стали мы с головешками обследовать пещеру в поисках какого-нибудь тайного хода, но не нашли боковых ответвлений, а это значит — никаких путей к отступлению и выход один — наш лаз. Единственное это окно в свет — самая наша уязвимая точка, ибо, если его обнаружат, они нас уничтожат одним махом, не израсходовав на это лишней пули… Тем, снаружи, не много времени понадобилось, чтобы открыть это наше окно, они стали грозить, что разнесут нас гранатами, спалят огнем, как мышей… Это точно: все в их власти. Наш план отражения врага в засаде рухнул, завязался спор о том, покончить нам с собой или сдаться в руки врага… Самые неистовые — самоубийцы, их сжигает внутренний жар, но, несмотря на это, никто не отваживается подать пример другим, все настаивают, чтобы кого-то уполномочить перестрелять сначала товарищей, а последним прикончить себя. А так как для них почему-то страшно важно само уничтожение последнего, который, по их мнению, ни в коем случае не должен остаться в живых, им нелегко остановить выбор на ком-то, кто внушает полное доверие. Предлагают Жмукича, по прозвищу Атаман Щетина, вид у него действительно зловещий. От такого предложения Жмукича передернуло, он оскорбился:
— Да неужто, братцы, я такой?.. Да я сам себя, не то что товарищей, не могу жизни решить!
Опять поставили вопрос на голосование, и снова — ремиз, недобор! И на этот раз повторилось то же разделение голосов: кому не терпится погибнуть, хотят самоубийством заменить выскакивание под пули; мы, предпочитающие оборонительную тактику для отсрочки, примиряемся с мыслью о сдаче.
Снаружи в отверстие пещеры запустили камень — для доказательства своей власти. Он грохнулся о гранитный пол, сверкнули, разлетелись в стороны осколки. Мне показалось, это граната, я зажал руками глаза, как будто сохранение зрения представляло сейчас для меня главную проблему. Страх захлестнул меня с новой силой, словно рухнула опора, до сих пор поддерживавшая меня. На самом деле опора эта — смерть, конечное освобождение человека от всего; сейчас же мне открылась совсем другая перспектива: если они сбросят на нас две-три грозди гранат, погибнут лишь счастливчики, те же, кто никогда не был баловнем судьбы, не сразу отдадут концы. Прежде им поотрывает руки, повыбивает зубы и ребра, у них вылезут наружу кишки и они ослепнут. Мы станем молить, чтобы хоть какая-нибудь холера нас взяла, но она будет медлить с приходом…
Тут из темноты раздался чей-то голос, до сих пор не раздававшийся ни разу:
— Вы, братцы, как хотите, а я сдаюсь!.. С какой стати мне самому себя убивать, когда они с дорогой душой меня прихлопнут, а боеприпасов у них завались?.. Только винтовку свою я им не отдам, вот смотрите! — И он саданул прикладом о камень.
Это заразило остальных. Без дальних слов, без обсуждений и голосований, а словно обрадовавшись, что кто-то указал им наконец, что надо делать, кинулись люди вымещать свою злость на своем оружии. Выхватывают затворы, обламывают бойки, разбивают приклады с вырезанными на них памятными датами, монограммами и пятиконечными звездами. Втаптывают гранаты в грязь, вытряхивают в лужи пули, разнимают пистолеты на несоединимые части, чтобы потом никто не мог похвастаться захваченными у нас трофеями. Словно наперекор черным силам зла, которые опутали нас, спешим мы доказать, что, если уж с оружием своим сумели расстаться как мужчины, значит, так же легко расстанемся с вольным светом и с жизнью!..
Выстроились мы очередью к лестнице, вылезаем один за другим, а здесь нас новое унижение поджидает: лаз из пещеры узкий, надо опуститься, как в церкви, на колени, голову нагнуть, словно подставляя ее под лезвие сабли и загребать подбородком снег, а снег этот — густая каша красная, пропитанная кровью Ягоша Контича!.. Я на руки оперся, поднимаюсь, пальцы в крови, а двое жандармов с обеих сторон подхватывают меня под локотки, словно шаферы, и скручивают запястья веревкой. Проводят сквозь строй, передавая с рук на руки, а за шпалерой четников лежат наши мертвые, хмурятся, недовольные тем, что мы за ними не последовали: Воислав, Илия, Милена, Ягош. Стыд меня мучает, особенно перед Миленой: ей вот выпала удача погибнуть с оружием в руках, а я разрешил себе руки связывать!.. И утешаюсь я мыслью, что разделяющий нас промежуток времени быстро сократят винтовочные залпы и мы сравняемся участью. Радосава Лешковича, раненого, или прикончили или спрятали где-то, только не видно его, а брат его Муё лежит на снегу: жив, дышит, а по лицу разлилась мертвенная серость. Тут только, воочию увидев павших, понял я с потрясающей ясностью, как много я потерял и как мало мне осталось, так что не стоит особенно и заботиться о всяких пустяках. С быстротой пули пронеслась в моем сознании такая мысль, и я уже услышал свой голос: