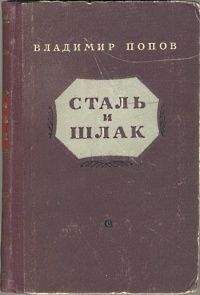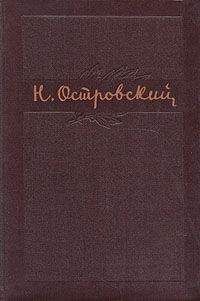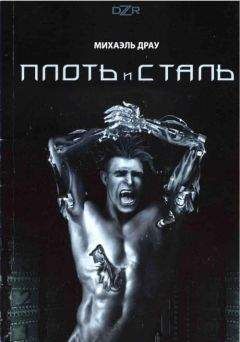Владимир Попов - Закипела сталь
Он вспомнил себя мальчишкой-школьником. И в школе его не любили. Он был сильнее всех и умнее многих. Но разве не любят тех, кто сильнее и умнее? Нет, любят. Значит, не в этом причина. Причина в другом, в том, что он всегда подчеркивал свое превосходство, демонстрировал свои знания, свою силу. Ему и в школе еще нравилось, что его боялись. Вот откуда оно шло. Повелевать другими, командовать другими, не считаться с другими. Авторитет силы — самый простой путь подчинять себе. Потому и предпочитал он такой авторитет, что давался легко.
Дома Ротов присел возле играющих детей и с грустью стал смотреть на них. Людмила Ивановна робко спросила, почему он такой скучный.
— Меня снимают с работы, — глядя мимо нее, ответил Ротов, и спазма сдавила ему горло.
Людмила Ивановна ахнула.
Ротов ушел в свой кабинет и вышел только вечером, когда дети уже спали.
За ужином он рассказал жене о беседе секретаря ЦК с Гаевым.
— И для чего нужно было Грише писать обо всем в ЦК? — с нескрываемой досадой сказала Людмила Ивановна. — Смотри, как сложилось: рабочие на тебя за грубость жаловались, танковый завод бучу поднял, да еще он…
— Сам виноват, — буркнул Ротов, и Людмилу Ивановну несказанно удивило это неожиданное признание.
Позвонив старшей телефонистке — не соединять ни с кем, кроме Москвы, — Ротов лег спать.
Ночью позвонил нарком.
«Быстро делается», — ужалила Ротова горькая мысль.
— Умер Канонихин, — сказал нарком, поздоровавшись. — Инфаркт, Завод остался без директора.
«Вот куда спровадить меня собираются», — мелькнуло у Ротова.
— В ЦК рекомендуют вернуть туда Мокшина. Твое мнение?
У Ротова так заколотилось сердце, что он не мог сразу ответить.
— Твое мнение? — повторил нарком.
— Не отдам, — глухо выдавил из себя Ротов, не будучи в состоянии произнести больше ни слова.
— Ну вот. То утверждал, что сам справишься, а теперь задний ход даешь? Что ж, в крайнем случае обойдемся и без твоего согласия.
— Разрешите на два дня отлучиться на танковый? — собрался с силами Ротов.
— А что случилось?
Ротов ясно слышал, что нарком усмехнулся.
— Помочь им надо.
— Разрешаю. Давно пора. Директор Магнитки сам бывает на танковом, по крайней мере, раз в месяц, не ждет, когда к нему на поклон приедут. А если и приезжают, то не гонит, как попрошаек. Желаю успеха.
22
В институте об истории Ольги никто ничего не знал: на вокзале Валерий сказал провожавшим его однокурсникам, что Ольга заболела.
Ольга чувствовала всю несуразность своего положения, но ничего не могла сделать. У нее был только один выход: молчать. А молчание угнетало. Изливать душу матери не хотелось — жалела ее, плакаться отцу — стыдно. Он ведь предостерегал: разберись, изучи. Хорошее дело: разберись, когда за плечами всего двадцать лет и ни горсточки опыта… Да и как разобраться в человеке, если раскрывается он полностью только на крутых поворотах. Нет, конечно, можно. Надо только не ходить с повязкой на глазах, видеть и оценивать все, даже мелочи. Почему не насторожилась она, когда Валерий предложил ей увильнуть от работы в подсобном хозяйстве? Пусть это единичный факт, но и в нем надо было уметь разобраться. А почему ей теперь все ясно? Повязка спала.
Во время лекций Ольге удавалось забывать о случившемся, а вернувшись домой, она уединялась и думала, думала, думала. В голову лезла всякая всячина, сложный, запутанный комплекс противоречивых чувств навалился на нее. Но мучительнее всего было утром, когда, проснувшись словно от толчка, она ощущала, как разом набрасывается на нее ворох липких, как патока, мыслей, перебивая одна другую, и от них не отбиться — тянется и тянется эта нить, переживания нагнетаются, состояние удручения усиливается с каждой минутой, и тогда только один выход — встать, заняться чем-нибудь.
Мало-помалу Ольга стала приходить в себя. Научилась отгонять мучительные мысли, а если и думала о происшедшем, то все реже, с глухой, затухающей болью.
Но вот в газетном ящике увидела конверт со знакомым почерком. В первый момент она даже отдернула руку — решила не брать, не распечатывать. Что может написать Валерий, и как у него хватило смелости написать после всего? Но рука потянулась сама собой.
«Любимая моя, я понимаю все, что творится в твоей душе, — писал Валерий. — Но постарайся понять и ты меня. Я стал жертвой родительской любви и стечения обстоятельств. Все было сделано без моего ведома и без моего согласия. Правда, я узнал об этом назавтра и мог бы, как честный человек, прийти в военкомат, во всем признаться. Но ведь пострадали бы отец и мать, которые вырастили меня, воспитали и любят. Хорошие они или плохие — анализировать не стану. И ты любишь своих родителей, которые тоже не лишены недостатков. К тому же, признаюсь, я не мог разлучиться с тобой. Я так привык быть рядом с тобой, говорить с тобой, любоваться твоим лицом. Даже молчать с тобой — и то хорошо. Ты, наверное, ненавидишь меня. Да и можно ли иначе относиться к человеку, который даже не пришел объясниться! Сейчас я уже в армии. Ты не можешь подозревать меня в том, что я просто трус. А тогда ты была в таком состоянии, что вряд ли выслушала бы меня, а если бы и выслушала, то ничему не поверила бы. Прости мне мой невольный грех, Оленька. Ведь любовь и сильна всепрощением. Я сделал преступление, но клянусь самым дорогим, что у меня есть, — моей любовью к тебе, что кровью своей, а может, жизнью, смою это пятно. Не знаю, останусь ли жив, но молю об одном: прости или хотя напиши, что простила.
Валерий».Искренность письма тронула Ольгу, смутная радость на миг шевельнулась в ее опустошенном сердце. Валерий стыдится своего поступка, раскаивается в нем… Значит, не такой уж он плохой.
— Не такой плохой… — вырвалось с иронией.
Прижавшись разгоряченным лбом к холодному оконному стеклу, закрыв глаза, Ольга мучительно думала:
«Что мне делать? Не ответить на письмо? Но он в армии, и ему как никогда нужна сейчас поддержка. Для того, чтобы человек исправился, надо верить в него, надо, чтобы он знал, что ему верят. А оправдает ли он эту веру?»
Ольга перечитала письмо. Валерий пишет то, что думает, что чувствует, пишет правду. Но какая неприглядная эта правда! Устроили подлог, и он принял его как должное. Почему? Любит, не хотелось разлучаться. Невольно вспомнила разговор с Шатиловым. «Каждый человек должен носить в себе две любви». А у Валерия, значит, одна любовь, да и в ней еще нужно разобраться: может, только любовь к самому себе? Нет, не понимает ее Валерий. Он пишет о ненависти. Да разве ненависть испытывает она к нему? Ненависть могла бы пройти, но есть чувство, которое, родившись, никогда не проходит. Это презрение. А раскаяние его — раскаяние вора, пойманного за руку. Если бы он ушел в армию тотчас, как узнал о подлоге, как бы он вырос в ее глазах! Ушел он потому, что больше ничего не осталось делать.
И все же Ольга принудила себя написать Валерию несколько ободряющих строк. «Может быть, он все же станет человеком. Не для меня, для себя».
23
Директор танкового завода Дорохин принял Ротова радушно, с распростертыми объятиями — у него не было никаких претензий к своему поставщику — и наговорил уйму приятных вещей.
— Ты не представляешь себе, как нас выручил прокат профиля. Сразу такую партию танков отправили, что транспортники с ног сбились. А броней я завален. Недавно даже соседям помог. У них перебой был с металлом — так я им тысячу тонн взаймы дал.
Дорохин не понял, почему Ротов при упоминании о профиле отвел в сторону глаза.
— А начальник бронебюро у тебя такой молодец, — захлебывался от восторга Дорохин. — Броня ваша непревзойденная. Слышал, союзники наши, англичане и американцы, просили открыть секрет ее производства. У них такой нет.
— При чем тут Буцыкин? — недоумевающе спросил Ротов. — Он как раз до конца был противником нового метода выплавки стали. Это прошло мимо него.
Дорохин сделал болезненную гримасу и выскочил в приемную.
Ротов занялся осмотром кабинета. Зеленоватые шторки на стенах. За ними, как водится, диаграммы работы цехов. В углах комнаты на подставках из полированного дерева стояли металлические макеты танков, сделанные с ювелирной тщательностью. Ротов подошел ближе, тронул башню — она повернулась легко и бесшумно. «Вот бы такую игрушку моим малышам — на месяц освободили бы от строительства домен из кубиков».
Вошел Дорохин.
— Ох и влип! — сказал он, брякнувшись в кресло и вытирая вспотевшую лысину. — Буцыкина к награждению представили, и ничего уже сделать нельзя. Списки утверждены.
— Как же это? — возмутился Ротов. — Я его выгнать собирался, а вы…
— А кого мы еще знаем из ваших? — оправдывался Дорохин. — Кто сюда больше всех звонит, кто нас лучше всех информирует, кто нам металл отгружает?