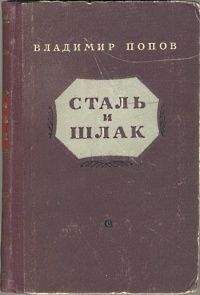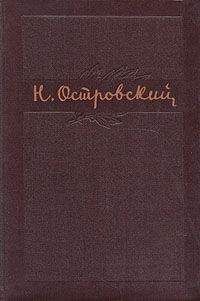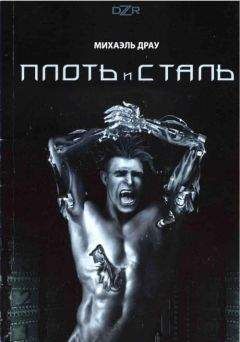Владимир Попов - Закипела сталь
— Беда с хлопцами, — пожаловался он как-то Ивану Петровичу. — Растишь, растишь, а тут — война… И пожить они у меня не успели. Даже не женились и внуков мне не оставили. Один теперь… Как бобыль…
Но с некоторых пор на ремонтах стало тихо. Дмитрюк оставался в цехе только после ночной смены и тогда наводил порядки. В других сменах его слышно не было.
Разгадку этому Пермяков нашел позже.
У Дмитрюка появилась новая забота. Определив Петю в цех, он не выпускал мальчишку из виду, часто заходил в плотницкую, благо всегда находилась причина заглянуть туда: то ручку для молотка сделать, то опалубку проверить. Настроение Пети и его вид успокаивали старика. Дмитрюк задавал ему несколько вопросов, потихоньку спрашивал плотников о его поведении и уходил довольный.
Скандал разгорелся в мастерской неожиданно для всех.
Петя спокойно завтракал у жарко натопленной печи, запивая вареный картофель бражкой. Еду он от плотников не принимал, а бражку считал угощением и не отказывался.
Зашел Дмитрюк, покружил по мастерской, отшлифовал, ручку своего молотка обломком стекла и уже собирался уходить, как заметил: на плече у мальчика порвана рубаха и длинная лоскутина, чтобы не болталась, небрежно приколота булавкой. Дед пожурил Петю за неряшливость и крепкими словами обругал плотников — как не стыдно, не следят за мальчишкой. Опешившие плотники сначала пооткрывали от изумления рты, потом, оправдываясь, заговорили все разом.
Много новых сочных словечек позаимствовал бы Петя из лексикона своих воспитателей, но в мастерскую заглянул Макаров и выпроводил разбушевавшегося старика.
В тот же день Дмитрюк появился в квартире, одну из комнат которой занимал Петя. Вид комнаты в первую минуту успокоил его, но, приглядевшись внимательно, он нашел, что убрана она по-холостяцки, под кроватью и на шкафу наслоилась пыль, в комоде вперемежку с чистыми носками, полотенцами и спецовкой лежало грязное белье.
Со стены на Дмитрюка глядел портрет женщины с ласковыми глазами и на редкость густыми, длинными ресницами. «Мать», — догадался старик и сокрушенно вздохнул.
Долго ожидал он хозяина комнаты. Потом сбросил полушубок, валенки и лег поверх одеяла. Когда он проснулся, Петя уже был дома и дремал, сиротливо опустив голову на стол.
Дмитрюк приподнялся, свесил ноги и долго любовно смотрел на мальчика.
Будто от его взгляда Петя очнулся и приветливо заулыбался.
— Где пропадал? — сурово спросил Дмитрюк, не найдя ничего более подходящего для начала беседы.
— На поселке был. В гостях, — ответил Петя, охотно признавая за Дмитрюком право спрашивать.
— А к тебе в гости кто ходит?
— Ко мне не ходят. Иван Петрович два раза заходил, но меня не заставал дома.
— Как же так? Это не по правилам. Ежели в гости ходить, так и к себе звать надо. А то нехорошо получается. Будто ты бедный родственник, — сказал Дмитрюк со смешинкой, действуя на самолюбие мальчика.
Петя густо покраснел.
— Просят они здорово: пойдем да пойдем. Откажешь — обижаются. Да все разом, вроде как сегодня…
Дмитрюк вспомнил разговор с плотниками.
— Скучно, наверное, жить одному?
— Ой, как еще скучно! Я ведь от скуки и хожу, а не для того, чтобы там поесть, что ли. Соседи мои гоже холостяки, но они то на работе, то у девушек. А я до девушек не хожу.
Петя говорил с такой грустью, так серьезно, что последняя фраза не рассмешила Дмитрюка.
— И мне скучно, — с неподдельной тоской, почти беззвучно пожаловался Ананий Михайлович, жаждавший сочувствия. — Придешь домой — комната пустая и словом переброситься не с кем.
— Вы хоть на работе наговоритесь досыта, — с завистью произнес Петя, — его мальчишеское сердце не угадало состояния старика. — Слыхал я, как вы с ремонтниками разговаривали часа два без умолку. А я? Плотники — те больше шутят, будто я маленький.
Дмитрюк как-то предлагал Пете перейти к нему, но мальчуган отказался, заявив, что хочет жить в комнате, где жили папа с мамой. И вдруг старика осенила счастливая мысль.
— Я ведь к тебе неспроста зашел. С просьбой, — поколебавшись, заговорил он. — Может, разрешишь мне тут коечку свою поставить и чемоданчик? Это все мое имущество. Уплотнить собираются и парня дают неподходящего. Неохота мне с кем попало жить. Я ненадолго. Скоро домой поедем. В Донбасс… И опять никуда не годится тебе одному здесь.
— Что ж, оно можно, — согласился Петя, застигнутый врасплох. — Койку вот тут поставим. — Он указал на свободное место у стены.
— Спасибо, Петя, что приютил старика, а то я аккурат что беспризорный сейчас. Думаю, обижать не станешь.
…Как-то Пермяков все же застал Петю дома. Мальчик сидел рядом с Дмитрюком за столом и за обе щеки уплетал пшенную кашу. В комнате было чисто, тепло, домовито пахло овчиной от дмитрюковского полушубка. Пермяков все понял и ушел удовлетворенный.
20
Зима отступила нехотя. Днем под теплыми лучами солнца появлялись проталины на дорогах, весело бежали первые ручьи, а ночью зима прокрадывалась снова, сковывала небольшие лужицы, и ледок хрустел под ногами, как тонкое стекло.
Шатилов распахнул окно в общежитии. Был тихий лунный вечер. В окно ворвалось почти неуловимое дыхание весны, ощущавшееся в аромате воздуха и его мягкой влажности. Издалека доносились звуки гармоники и песня, в которой говорилось о том, «как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит…».
И Василий не выдержал. Борясь с собой, обманывая себя, будто хочет только пройтись, он стал одеваться.
Дверь приоткрылась, и в комнату вошел мужчина в нагольном тулупе, с узелком.
— Ваньку Смирнова ищу, — пояснил он.
— А зачем он вам?
— Как-никак родственниками приходимся. Сын родной.
Шатилов предложил побыть у него до возвращения Вани из кинотеатра, указал на вешалку за шкафом, предложил стул.
— Что вас Тимофеем зовут — это мне известно, — сказал он, — а отчество?
— Такое ж и отчество. Значит, Ваньку моего знаете?
— В одной смене работаем.
— Вы не Шатилов?
— Он самый.
— Вот как! Ванька о вас писал. И еще много всякого писал, да только не верю ему. Фантазиями разными сызмалу страдает. — Тимофей Тимофеевич сбросил отсыревшие валенки, пристроил их к батарее и уже совсем по-свойски оглядел комнату, пощупал одеяло, подушку — из пера или ватная. — А много он зарабатывает?
— Порядком. Тысячи две выгоняет. Дельный парняга. Все на лету подхватывает. На всю страну знатным сталеваром скоро будет. А общественник какой! Недавно такой доклад комсомольцам закатил — заслушались!
Лицо Тимофея Тимофеевича потеплело, исчезли складки у губ — недоверчивые складки.
— Грешен, — признался он. — Хотел, чтобы Ванька хлеборобом был, а он все к машинам да к машинам. Я ему за то даже трепку давал. А выходит, зря. Вот к чему у него талант определился, — и совсем доверительно рассказал, что приехал дознаться, откуда у сына такие деньги: то тысячу пришлет, то полторы. Сомнительно показалось. Может, в карты…
Шатилов расхохотался, да так закатисто, что Тимофею Тимофеевичу самому стало смешно. От радушного приема, от приятных вестей он размяк, стал жаловаться. На селе теперь бабы силу взяли. В правлении он один мужик. Заели совсем, языкастые!
Заговорили о самом животрепещущем — о войне. Тимофей Тимофеевич стал излагать свою теорию:
— На войне все одно, что в природе: затихло — так и знай: грозой пахнет. Сколько раз было: тихо, тихо, а потом наши ка-ак вдарют — и летит фриц вверх тормашками!
Шатилов услышал за дверью шаги Смирнова и позвал его. В новом пальто нараспашку и каракулевой ушанке он так не походил на прежнего Ваньку, что Тимофей Тимофеевич, оробев, только протянул руку и почтительно сказал:
— Ну, здравствуй, Иван Тимофеевич.
Ваня увел отца к себе, а Шатилов торопливо оделся и выскочил на улицу. Ноги сами несли его к дому Пермяковых. Иван Петрович на работе. «Хорошо, если бы и Анна Петровна куда-нибудь ушла! Только вряд ли — домоседка».
На звонок вышла Ольга. Она немного растерялась, увидев Шатилова, но быстро овладела собой и тепло поздоровалась. Василий заглянул в стеклянную дверь, отделявшую столовую от передней. Анна Петровна сидела за вязаньем с какой-то старушкой. У Шатилова появилось желание увести Ольгу из дому.
— Оленька, пройдемся. Сегодня чудо-вечер, грешно дома сидеть.
Медленно побрели они по аллее к театру.
— Спасибо, Вася, что заглянули. Значит, дружба все-таки остается дружбой…
Василий внезапно почувствовал прилив смелости.
— А любовь остается любовью, Оля. Вот я вас люблю… По-прежнему… А уважать стал еще больше.
Он сказал все это просто, как будто все подразумевалось само собой.